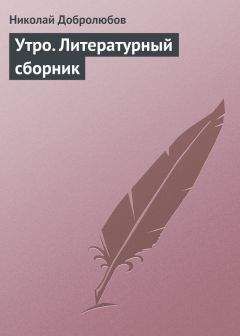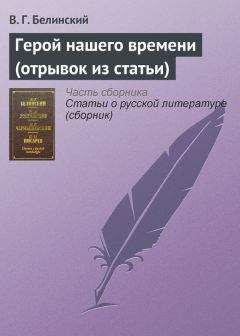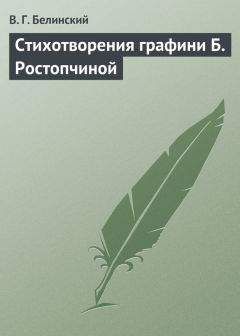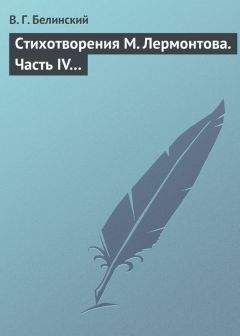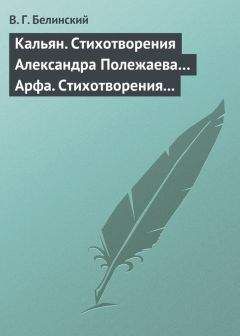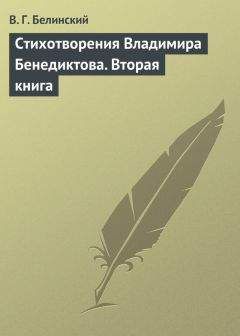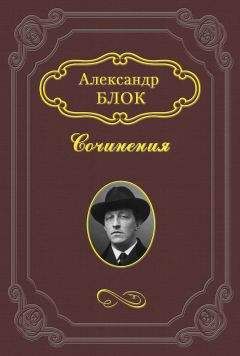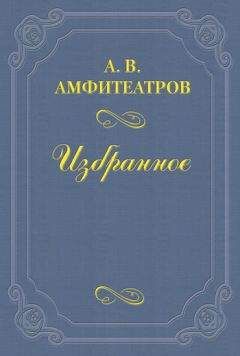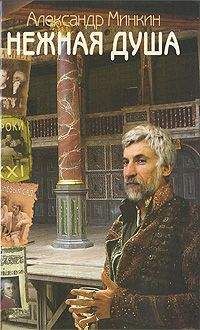Владимир Злобин - Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения"
Описание и краткое содержание "Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения" читать бесплатно онлайн.
«Тяжелая душа» — впервые издающиеся мемуары Владимира Ананьевича Злобина (1894–1967), поэта, прозаика, публициста русского зарубежья, с 1916 г. литературного секретаря Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус, а после 1945 г. — хранителя их семейного архива. В сборник вошли статьи, очерки, эссе эмигрантского «Литературного дневника», печатавшегося в парижском журнале «Возрождение», книга воспоминаний «Тяжелая душа» о З.Н. Гиппиус и ее окружении, раритетный сборник «После ее смерти», посвященный памяти Гиппиус, и стихотворения разных лет.
Догадки, догадки, догадки… Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном? Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.
Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:
— Cadavre! Cadavre! Cadavre! [Труп! Труп! Труп! — фр.].
Юрий Иваск. Владимир Злобин. После ее смерти[681]
За все годы эмиграции было напечатано едва ли больше 10–12 стихотворений Злобина. Теперь вышла его первая книга. И вот создается впечатление, что появился новый поэт, уже давно печатавшийся, но еще никем не узнанный. Встреча с ним — настоящая радость.
Конечно, это «петербургская школа» (Кузмин, Анненский). Но есть в ней звук, мотив — незнакомый, неожиданный. Да, Петербург кончился, провалился… Однако это не мешает Злобину как-то умудренно, бездумно принять жизнь. Почти благословить ее. Здесь — его своеобразие, еще не вполне проявившееся. И это хорошо — значит еще можно ждать от него многого. А вот лучшая его вещь:
В окне всё так же небо хмурится,
Всё тот же кашель за стеной.
А ты оденься и — на улицу,
Да погуляй хотя б весной…
Тут то легкомысленное простодушие, за которое следовало бы отпустить сорок грехов. У Злобина веселой нищетой преодолевается уныние (греховное!) и достигается свобода. Я верю ему, когда он говорит: «Буду… жрать картошку, счастья ждать и дождусь его наверно». В век концлагерей, бомб и сюрреалистических ужасов — такие слова — ободрение, ласка! Ведь давно пора чему-то довериться в жизни — наперекор фактам и литературе. Тогда легче будет выносить ужасы и, может быть, даже легче будет с ужасами бороться.
Вкус Злобину никогда не изменяет. Да, он настоящий петербуржец. И он мастер, который едва заметно, но очень существенно что-то изменил в стихах «петербургской школы». Слова, ритмы — знакомы. Но интонация — другая.
Когда-нибудь литературоведы этим займутся и, может быть, дознаются (и даже поймут!), в чем дело, в чем секрет Злобина (его творчества, его ремесла).
В заключение нельзя не отметить стихотворения «Свиданье» — памяти Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус. Это лучшее, что когда-либо о них сказано.
Ник. Андреев. Открытие поэта[682]
Владимир Злобин. После ее смерти. Стихи. Изд-во «Рифма», Париж, 1951
Имя В.А. Злобина в представлении читателей неразрывно связано с тем направлением русской мысли и слова, которое возглавлялось Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, к ним обычно присоединялось имя Д.В. Философова: богоискатели, утонченнейшие мастера и ценители «тайновидящего слова»; в плане общественном — пламенные отрицатели «грядущего хама», затем — большевизма. В.А. Злобин был в свое время редактором «толстого», но кратковременного парижского журнала «Новый корабль», был представителем в Париже варшавского еженедельника «активного направления» «Меч»; стихотворения его печатались за границей не часто.
После последней войны преимущественно «Новый журнал» стал помещать его поэтические произведения, возбудившие внимание своей эмоциональностью и чистотою отделки, — «петербургская школа стиха», по мнению ценителей. Но еще в 1951 году, оказывается, вышел сборник его стихов «После ее смерти». И таковы ненормальные условия эмигрантского книжного рынка, что только в конце 1953 года эта книжка попала на глаза пишущему эти строки.
Надо сказать откровенно: для читателя произошло подлинное открытие поэта. Уточним понятие. Есть немало умелых техников стиха (без техники, конечно, не существует стихов как субъекта литературы). Их произведения часто производят впечатление «в розницу», взятые сами по себе, но нередко, соединенные под обложкой сборника, они обнаруживают «поэтическое худосочие» автора, неоправданность его пристрастий, повторения, скудость словаря, ограниченность технических приемов и главное — отсутствие единого поэтического мировоззрения.
Сборник Злобина — во всем противоположен подобным «поэтическим техноидам». Он создан единым дыханием поэта, для которого — при всем разнообразии отдельных частных направленностей — есть главнейшая из главных тем: попытка преодолеть раздвоенность, которая возникла как следствие взмаха «двуострого меча» ангела, присланного «восстановить образ искаженный», ибо нужно не искаженное, а истинное единство «плоти» и «духа». Теме описания «раздвоенности» отдан ряд стихотворений — пожалуй, они наименее индивидуальны.
Любопытно, что Злобин совершенно не боится идти путем классических образцов, беря центральные образы даже у Пушкина и у Лермонтова, но каждый раз он производит освоение темы и образа, потому что умеет «остранить» и привычный образ и, казалось бы, в вариант старой темы внезапно ввести то словечко, ту «изюминку», которые полностью делают злобинским — и тему и все его поэтическое хозяйство. Таковы и начальные «Три ангела предстали…»:
Буду в сумерки бряцать
Я на лире — очень скверно.
Жрать картошку, счастья ждать.
И дождусь его — наверно.
Но кроме иронии у Злобина есть всегда мысль: он — по— видимому — чужд «глуповатой поэзии», «разрешенной» Пушкиным: недаром он из «племени Мережковского — Гиппиус». И эта мысль ценна, ибо в точном, ясном, внешне непритязательном, но таком ладном, весомом стихе она и одухотворяет его строфы, которые приобретают значительность своей небанальной мудростью. Таковы «Зеркала», «Душа моя, иль ты забыла», «Ее голос», замечательное «Где нет воды, прохлады, сырости», блестяще «сделанный» «Маятник» и особенно тончайшее «Почти не касаясь земли», где поистине ошеломительна в простоте и свежести мысли строка — «Но сердце не хочет ответа». Мысль переполняет страницы сборника, она пугает:
…плоскодонных
Звуком вечной глубины
(«Плоскодонные» — очень хорошая и, кажется, совершенно новая словесная находка.) Но мысль ни на мгновение не устраняет легкости стиха и эмоциональной непосредственности. В стихотворении памяти Мережковских — «Свиданье» — все строфы получают звучание благодаря последнему эпитету «райский» (вот подлинная «магия» поэта):
И те же им звезды являют
Свою неземную красу.
И так же они отдыхают,
Но в райском Булонском лесу.
В мастерских «Акробатах»:
Чудо райского полета —
Смертных вечная мечта.
В «Дружноселье» — «загорелые руки твои», «земляника спелая», «луна медовая» — придают ту лирическую непосредственность, которая затрагивает читательское восприятие, так же как строка из «В первый раз» — «На древний Псков сходящая весна».
Несмотря и на «томленье сонное», зовимое любовью, и догадку — «Ты на проклятом месте», у Злобина есть оптимистическая нота надежды, когда:
И на единое мгновение
Сольются радость и печаль.
К сожалению, надо признать, что стихотворение «Чудовище» остается непонятным и как бы выпадающим из общей столь человечно-личной поэтической стихии.
Сборник удачно открывает читателям поэта, как-то неслышно скользящего по миру, верного памяти о любви, пытающегося воссоздать лик «неискаженный» и победить даже смерть.
Ни совершенством, ни страданьем.
Ни чистотой, ни красотой —
Ты победишь ее слияньем —
Любви небесной и земной.
Мария Вега. Двуликая муза (О стихах Владимира Злобина)[683]
И он взмахнул мечом, и пал я, рассеченный
И раздвоилось все…
(В. Злобин)
Должен ли поэт критиковать поэта? Этот вопрос часто и горячо оспаривается — от собрата по искусству невольно ждут пристрастности, «созвучности» самому себе и т. д. Я отвечаю: безусловно, должен, потому что поэт слышит и видит в стихах ту странную, не называемую, незримую их сущность, которая герметически закрыта для непосвященного, будь у этого непосвященного сколько угодно начитанности, эрудиции, библиотечной пыли на волосах и так называемого sens artistique* [Художественное чутье (фр.).], которым якобы обладают профессиональные критики. Какой поэт точно определит во что, собственно, он посвящен? Только, пожалуй, в тайну «звучания», — Блок старался увидеть на своем столе стеклянную цаплю, и, когда она появлялась, рождался стих, — звучание, и на дне безысходной бетховенской глухоты звучала та музыка, которая переживет и нас, и нашу планету.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения"
Книги похожие на "Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Злобин - Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения"
Отзывы читателей о книге "Тяжелая душа: Литературный дневник. Воспоминания Статьи. Стихотворения", комментарии и мнения людей о произведении.