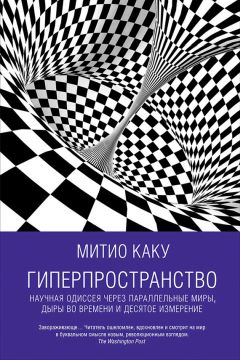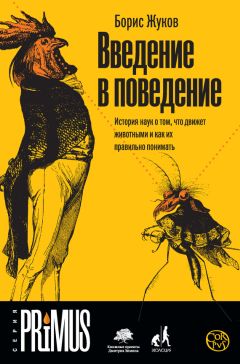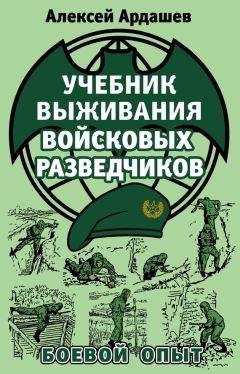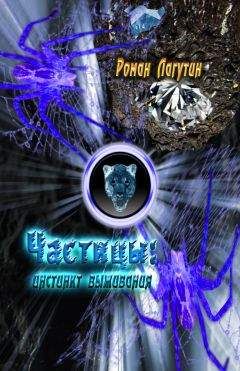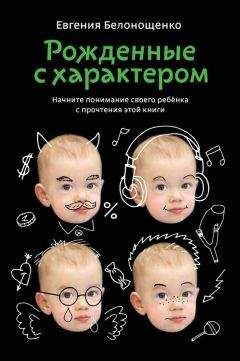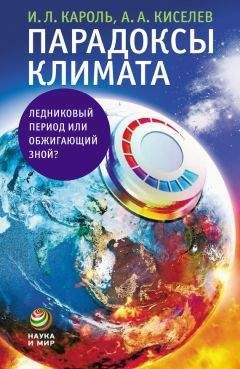Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Инстинкт и социальное поведение"
Описание и краткое содержание "Инстинкт и социальное поведение" читать бесплатно онлайн.
Но за внешней картиной событий стоит социальная действительность, породившая эту войну. Ее главным подсознательным мотивом был страх перед социализмом. Людей, активно стремящихся к войне, в каждой стране очень мало; но можно так подготовить страну к войне, чтобы люди могли принять ее как необходимость, а свое участие в ней – как свой долг. Такая подготовка к войне велась давно, и особенно в Германии и Франции. В этих странах были сильнейшие социалистические партии, составлявшие главную преграду росту национализма. В 1889-ом году представители социалистов всех стран Европы собрались в Париже на конгресс, создавший II Интернационал. В этом конгрессе принял участие Энгельс, и принятая им программа носила отчетливо выраженный марксистский характер. В отличие от I Интернационала, отдельные партии не были связаны обязательными решениями международного центра и могли определять свою политику в зависимости от местных условий. Но важнейшим принципом всех социалистов был «пролетарский интернационализм», созданная Марксом доктрина, выраженная заключительным лозунгом «Коммунистического манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Согласно этому учению, трудящиеся всех стран должны были считать себя братьями и защищать общие интересы рабочего класса от своего врага – капиталистов и помещиков всех стран. Программа Интернационала призывала всех сторонников социализма бороться против войны, поскольку все войны затевает в своих интересах правящий класс, а рабочие не согласны проливать кровь своих братьев в интересах своих врагов.
Марксизм выступил как социальное учение с явными чертами новой религии, претендовавшей изменить весь мировой порядок, уничтожить не только частную собственность, но и национальные государства – немыслимые без суверенного права вести войну – и даже угрожавший уничтожить традиционный тип семьи. что бы ни говорилось о «научной» основе этого учения, оно выражало глубокие чувства работников наемного труда – их социальный инстинкт и их инстинктивное отвержение асоциальных паразитов. Марксистская религия распалась, но она сообщила мощный импульс развитию человеческого общества; и, конечно, она была решительно направлена против войны.
В наше время трудно представить себе, какие глубокие убеждения и надежды были связаны с социализмом в начале двадцатого века. Стремительный поток истории унес в прошлое человеческие типы того времени; люди, жившие и страдавшие тогда за свои убеждения, кажутся теперь столь же далекими и непонятными, как христианские мученики, с которыми у них и в самом деле было много общего. Эпоха, в которой нам довелось жить, называется «мещанской», а по-французски «буржуазной». Окружающие нас люди невольно приписывают своим предшественникам свои собственные мотивы и полагают, что люди всегда стремились только к безопасности и материальному благополучию. Теперь почти невозможно объяснить людям русскую революцию.
Но в начале двадцатого века люди верили в лучшее будущее и думали, что путь к этому будущему – социализм. Еще при жизни Маркса рабочие осознали уроки 1848-го года и Коммуны и не рассчитывали достигнуть этого будущего вооруженным восстанием. Они поняли, что на защиту собственности станет большинство населения, и чувствовали даже, что собственник живет в них самих. К тому же «закон абсолютного обнищания» не подтвердился, а напротив, материальное благополучие рабочих постепенно росло. Поэтому в рабочем движении одержал верх «оппортунизм», стремление на каждом шагу добиваться «возможного». В 1894-ом году, за год до смерти, Энгельс написал предисловие к книге Маркса «Классовая борьба во Франции», очень отличающееся по настроению от «Коммунистического манифеста». Энгельс признаёт уже, что рабочие не пойдут на вооруженное восстание, и объясняет, почему в новых условиях безнадежно строить баррикады. Он радуется успехам социалистов на выборах – особенно успехам немецких социал-демократов – и, кажется, разделяет их надежды на мирную эволюцию общества в рамках демократии. Впрочем, он допускает, что буржуазия может не согласиться с итогами голосования и «нарушить конституцию»: Энгельс надеется, что в этом случае рабочие все-таки восстанут. Неясно, как согласовать такую возможность с соображениями о неэффективности баррикад, и весь оптимизм этого предисловия кажется искусственным. Старый бунтарь явно не понимал, что может выйти из европейского социализма.
После смерти Энгельса оппортунизм окончательно одержал верх, и социалисты раскололись на фракции; кроме самых «левых», все они готовы были – и хотели – прийти к власти парламентским путем. В большинстве стран Европы в начале века было уже всеобщее избирательное право, и лидеры социалистов тешили себя надеждой, что законно избранные правительства введут их, наконец, в обетованную землю, в предусмотренный их программой земной рай.
Сегодня, после неоднократных избирательных побед социалистов и неизменных провалов их правительств, эти иллюзии кажутся странными. В сущности, они мало отличаются от магического мышления Руссо, верившего в «общую волю», и от доктринального оптимизма якобинцев и Луи Блана. Никакое политическое учреждение не может механически разрешить социальные и личные проблемы людей, а может, в лучшем случае, внести некоторый вклад в бесконечный процесс решения этих проблем. Может быть, это и понимали самые умные из социалистов, но в большинстве они проявляли безудержный энтузиазм. На выборах 1912 года Германская Социал-Демократическая Партия получила одну треть поданных голосов и 110 мест в рейхстаге, где она стала крупнейшей фракцией; Французская Социалистическая Партия получила в 1914 году 103 из 602 мандатов; австрийские социал-демократы имели в 1907 году 87 мест в парламенте из 516; британские лейбористы получили на выборах 1906 года 29 мест из 670, преодолев все трудности сложившейся двухпартийной системы; даже в России, на выборах во вторую Думу 1906 года, когда еще не был окончательно фальсифицирован избирательный закон, социалисты-революционеры вместе с социал-демократами получили 103 места из 520. В германском рейхстаге огромная социал-демократическая фракция отказалась встать при появлении императора, по традиционному возгласу “Kaiser hoch” (да здравствует кайзер), а кайзер назвал их лидеров «врагами Германии» (deutschfeinde). Европейские либералы, верившие в свои представительные учреждения, видели, как волна социализма заливает все парламенты. Хозяева Европы имели причины для страха.
Более умные из них, впрочем, искали компромисса, приручая лидеров социалистов. Еще в 1899 году социалист Мильеран вошел в кабинет Вальдека-Руссо; товарищи по партии были шокированы и называли его предателем, но он правильно понял, куда дует ветер, и впоследствии был президентом. Трибун французских социалистов Жорес допускал уже сотрудничество с либералами, и даже его оппонент, марксист-догматик Гэд в конце концов стал министром. В Италии Джолитти обхаживал социалистов, рассчитывая вовлечь их в свое правительство. В Англии правящие круги освоились с умеренными и респектабельными лейбористами; впоследствии, когда эта партия стала получать больше голосов, лейбористы становились министрами и уходили в отставку лордами. Только в Германии и России феодальные правители боялись компромиссов и не шли на уступки.
Не столь умные буржуа, а их было большинство, панически боялись социализма. Они связывали воедино угрозу собственности и угрозу отечеству; государственная власть была гарантией безопасности их имущества, и недавний опыт Коммуны научил их, что только армия может уберечь их земли, фабрики и банки от пролетарской руки. Но армия была орудием национального государства и содержалась на случай войны. Нельзя было признать, что армия защищает их от своего народа – поэтому нужен был внешний враг, и очень удобно было, что он был. Офицеры, большей частью дворянского происхождения, были естественным образом консервативны. Буржуа, дворяне и священники не любили новых идей, приписывая им иностранное происхождение. Крестьяне тоже боялись за свою собственность и рассчитывали на защиту государства; они были неграмотны и боялись всего нового и чужого, как все крестьяне в истории. Даже мелкие буржуа, дрожавшие за свою службу или свою лавку, были большие консерваторы, почитали всякую наличную власть и были настроены весьма национально.
Люди, посягавшие на собственность, были рабочие и неимущие интеллигенты. Собственности у них не было, им «нечего было терять, кроме своих цепей». Но им тоже не чужды были национальные чувства, и на этом можно было сыграть. Не всякий умел соединять эти чувства с уважением к соседним народам, как профессор философии Жорес. И эти люди подвержены были общему закону «защиты собственной культуры», который с почти инстинктивной силой внушает человеку недоверие к людям непривычного вида, говорящим на непонятном языке. Необычные фамилии на вывесках магазинов мог заметить не только философствующий буржуа Моррас; необычные одежды галицийских евреев могли насторожить не только босяка Гитлера, но и честных венских рабочих. Фольклор всех народов содержит нелестные обозначения для чужих племен, например, их именами называют некоторых насекомых: в России тараканов называют «пруссаками», а в Германии – «русскими», «французами» и даже «швабами». Эту дурную привычку, коренящуюся в общих закономерностях всех культур, всегда использовали в своих интересах демагоги любой политической окраски.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Инстинкт и социальное поведение"
Книги похожие на "Инстинкт и социальное поведение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Абрам Фет - Инстинкт и социальное поведение"
Отзывы читателей о книге "Инстинкт и социальное поведение", комментарии и мнения людей о произведении.