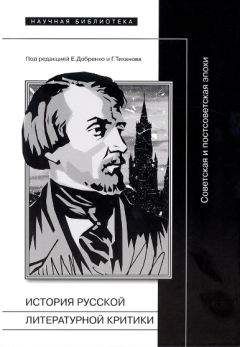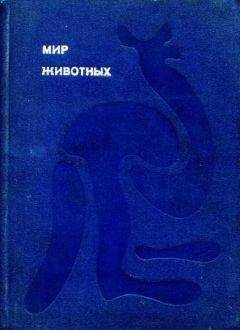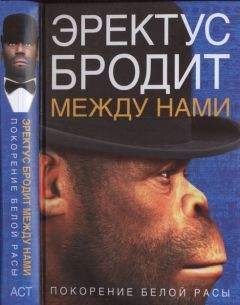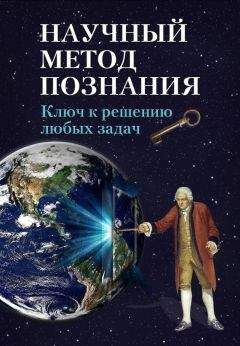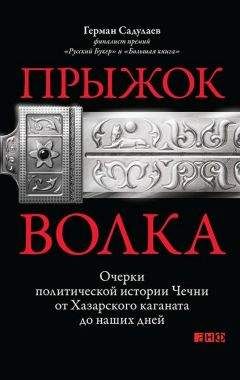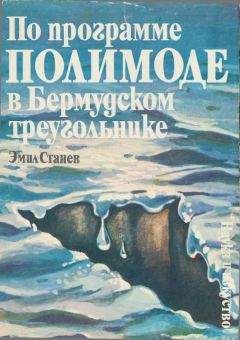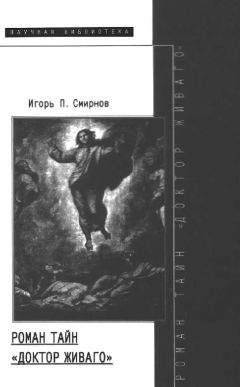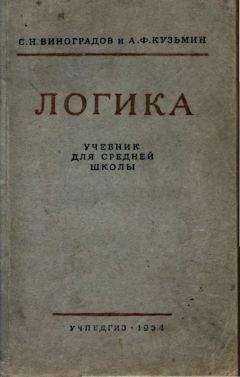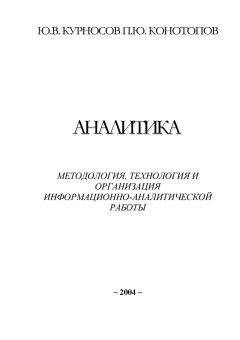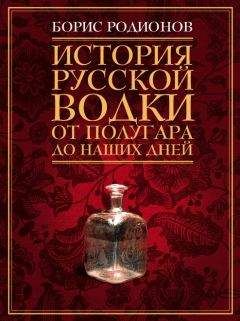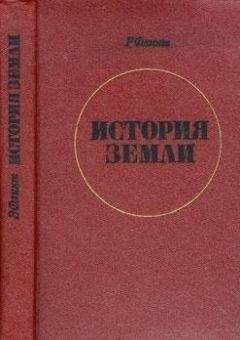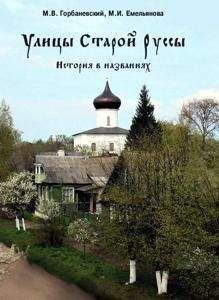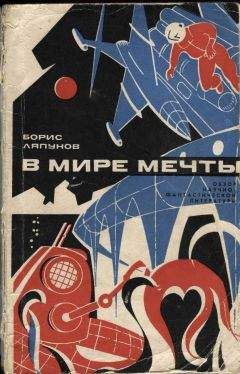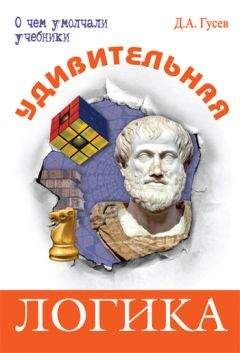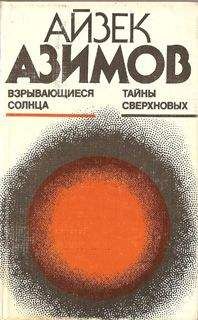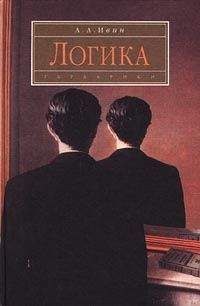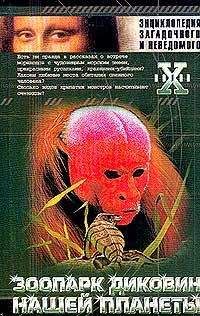Игорь Смирнов - Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней"
Описание и краткое содержание "Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней" читать бесплатно онлайн.
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы. Что касается существа дела, то оно заключалось в том, чтобы установить соответствия между онтогенезом и филогенезом. Мы попытались совместить в нашей книге фрейдизм и психологию интеллекта, которую развернули Ж. Пиаже, К. Левин, Л. С. Выготский, хотя предпочтение было почти безоговорочно отдано фрейдизму.
Нашим материалом была русская литература, начиная с пушкинской эпохи (которую мы определяем как романтизм) и вплоть до современности. Иногда мы выходили за пределы литературоведения в область общей культурологии. Мы дали психо-логическую характеристику следующим периодам: романтизму (начало XIX в.), реализму (1840–80-е гг.), символизму (рубеж прошлого и нынешнего столетий), авангарду (перешедшему в середине 1920-х гг. в тоталитарную культуру), постмодернизму (возникшему в 1960-е гг.).
И. П. Смирнов
Вершина всякого символа — о последнем, о конце всего.[210]
Когда же за точку отсчета принимается прошлое, тогда текст, подразумевающий всесвязность, обязан идти к современности от мифа, от самой ранней концептуализации обсуждаемого предмета[211]. Вот почему для Белого нет разницы между мифологией и художественной деятельностью:
Создание словесной метафоры (символа, т. е. соединение двух предметов в одном) есть цель творческого процесса; но как только достигается эта цель средствами изобразительности и символ создан, мы стоим на границе между поэтическим творчеством и творчеством мифическим…[212]
Пространственному мышлению символистов свойственная им мегаломания диктовала космическую масштабность:
…темы космические стали главным содержанием поэзии, —
констатировал Вяч. Иванов[213]. В коммуникативном плане символистский текст мог строиться как апелляция к Богу — к тому лицу, которое трансцендирует собой все сущее; по заявлению З. Гиппиус,
…мы, современные стихописатели <…> молимся — в стихах, как умеем…[214]
Художник, который имеет дело с панкогерентной действительностью, необходимо осознает всю ее без исключений как поддающуюся эстетизации и тем самым абсолютизирует свою собственную активность, сообщая ей характер единственно значимой среди прочих способов самовыражения личности (по известной формуле Брюсова, «…всё в жизни лишь средство Для ярко-певучих стихов…»[215]). Коль скоро в литературном произведении моделируется универсум во всем его объеме, художник вступает в соперничество с Богом и превращается, как об этом пишет Белый, в демоническую фигуру:
Художник — творец вселенной. Художественная форма — сотворенный мир. Искусство в мире бытия начинает новые ряды творений. Этим искусство отторгнуто от бытия <…> Художник — Бог своего мира. Вот почему искра Божества, запавшая из мира бытия в произведение художника, окрашивает художественное произведение демоническим блеском. Творческое начало бытия противопоставлено творческому началу искусства. Художник противопоставлен Богу. Он вечный богоборец[216].
Один из излюбленных «готовых предметов» символизма, в той его версии, о которой идет речь, — кристалл[217], раз в кристаллических структурах каждая вершина связана с множеством других вершин и все они — друг с другом. Между тем в интранзитивной картине мира преобладают реалии, являющиеся искусственными или естественными медиаторами-преградами, средостениями (это, допустим, театральный занавес, который выполняет и посредничающую, и разделительную функции относительно зрителей и сцены, — ср. использование мотива занавеса в «Снежной маске» Блока[218]). Уничтожение медиаторов-преград ассоциируется символизмом с возможностью проницать мир вплоть до его последней черты: когда «покрывало Майи» делается в стихотворении Вяч. Иванова «Прозрачность» «сквозным», происходит объединение физической и мыслимой реальностей[219]. Предмет-медиатор, переставший быть помехой, часто предстает у символистов в виде окна, из которого открывается бесконечная перспектива: символ, по Белому, — «окно в Вечность»[220]; икона для Флоренского «окно» в «тот» свет[221]; эрос для Бердяева («Метафизика пола и любви») с его почти что порнотеизмом (= половым влечением к божеству) — «окно в бесконечность»[222]. Приподымание завес, совлечение покровов, срывание одежды с тела — устойчивые мотивы символистского искусства (ср. хотя бы «Хочу» Бальмонта). Одежда не должна мешать телу быть видимым (статья Волошина «Современная одежда»).
В поэтике символизма панкогерентность получала выражение в установке на создание текстов, которые размывали границы либо между разными искусствами (Gesamtkunstwerk), либо между искусством и прочими дискурсами («научная поэзия» Брюсова), либо между разными жанрами художественной речи (метризация прозы у Белого) и т. п.
Все соотносимости символизм противопоставлял сугубо физическую среду, легко рассыпающуюся, разлетающуюся, т. е. не скрепленную изнутри никакой связью, — царство пыли и праха («Демоны пыли» Брюсова, «Пыль» З. Гиппиус, «Пепел» Белого, глава «Порох» из статьи Волошина «Демоны разрушения и закона»)[223].
1.2.1.2. Символистское представление о совместимости любого со всем воплощалось не только в одно-всезначных соответствиях. Вариантом в реализации этого представления было такое построение текста, когда значениями, соположенными данному значению, служили лишь две, но строго контрастные, взаимоисключающие смысловые величины: yR(z vs. (-z)). Иногда к такой паре противоборствующих смыслов добавлялись другие, также альтернативные пары, создававшие некий открытый, допускающий продолжение список.
Если темой текста являлась, скажем, категория индивидуального, то данный субъект парадигматически связывался одновременно с трансцендентно Другим, с Богом, и с социально другим, как это имело место в стихотворении Мережковского «Двойная бездна» («Ты сам — свой Бог, ты сам — свой ближний…»[224]), или с мужским и с женским началами, как в лирике Сологуба («Я — царевич с игрушкой в руках <…> Я — невеста с тревогой в глазах…»[225]), или с высокой, развитой и с низкой, примитивной культурами, как у Бальмонта («Сын солнца, я — поэт, сын разума, я — царь. Но предки за спиной, и дух мой искаженный — Татуированный своим отцом дикарь»[226]). Символистская логика, о которой идет речь, близка романтической. Но если романтическая личность обладает неким собственным содержанием, которое затем теряется (= иррефлексивность), то символистская не имеет точки отсчета: она изначально многозначна или — в других случаях — не умеет вообще найти свое значение.
Индивид, попавший во внутренне противоречивую смысловую парадигму, пребывает в состоянии неопределенности, невозможности выбора одной из противоположностей, с которыми он постоянно и равно корреспондирует; у Анненского находим:
Не могу понять, не знаю…
Это сон или Верлен?..
Я люблю иль умираю?
Это чары или плен?[227]
«Я» — образ не поддается сколько-нибудь одноплановой идентификации, в каких бы категориях он ни описывался; в одном из стихотворений А. Добролюбова лирический субъект нарисован не способным ни локализовать себя в пространстве, ни понять, жив ли он или мертв, активен ли он или пассивен и т. п.:
Где? на равнине? иль в горной стране?
Отрок ли я, иль звезда в вышине?
Вспомнил ли что, иль забыл в полусне?
Я ль над цветком, иль могила на мне?
Я ли весна, иль грущу о весне?[228]
Социальный успех не имеет для личности (в поэзии Брюсова, З. Гиппиус и др.) никакого преимущества перед социальным поражением:
Все безразлично — восторг и позор…
В мире встречает уверенный взор
Только провалы да звездный узор.[229]
Тебя приветствую, мое поражение,
Тебя и победу я люблю равно;
На дне моей гордости лежит смирение,
И радость, и боль — всегда одно.[230]
«Готовые предметы», воплощающие собой неразрешимую биполярность человеческого существования, — это устройства, производящие колебания: качели (ср. стихотворения Сологуба «Качели» и «Чертовы качели», «Забвение» Балтрушайтиса, «Качели» Г. Чулкова), маятник (ср. «Тоску маятника» Анненского и тему маятника в прозе Бальмонта, включенной в его стихотворный сборник «Горящие здания»), коромысло (ср. «Коромысло» Бальмонта), весы (ср. «Весы» Вяч. Иванова, а также одноименное название символистского литературного журнала, возглавлявшегося Брюсовым).
Из-за того, что одно и то же должно было пониматься как разное, как альтернативно раздвоенное, синонимы в символистском стихотворном искусстве становились обозначениями не совпадающих друг с другом, самостоятельных предметов, образуя тем самым троп, известный под названием парадоксона (один из многих примеров этого тропа — нашумевшие строчки Брюсова: «Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне…»[231]).
Соположение данному биполярных величин требовало от символистов двойственного самосознания: художник постреалистической эпохи — такая личность, которая и продуцирует эстетические ценности, и монополизирует право на их потребление и рецепцию (в качестве эксперта по вопросам искусства, коллекционера, историка культуры и пр.). Эта тенденция в символизме была очень точно отрефлексирована в мемуарах А. Бенуа:
…я в одно и то же время «любитель искусства» (и знаток его), я и творец-художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим и дающим субъектом.[232]
Высказывания, не считающиеся со своей внутренней противоречивостью, в высшей степени присущи и философскому дискурсу символизма (особенно философии Розанова). Шестов сделал отказ от однозначности проектом философии, которой, по его, сенсационной для своего времени, методологии, следовало бы перестать строить системы:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней"
Книги похожие на "Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Смирнов - Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней"
Отзывы читателей о книге "Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней", комментарии и мнения людей о произведении.