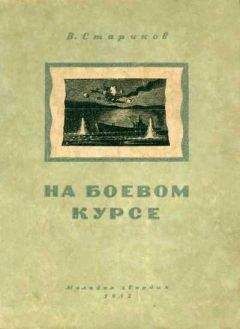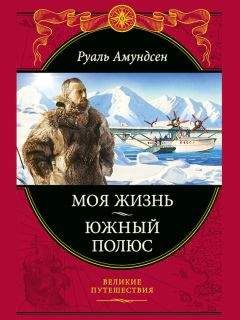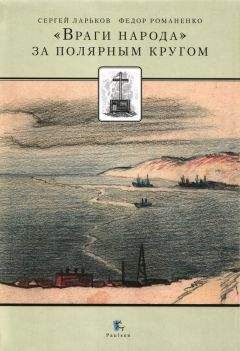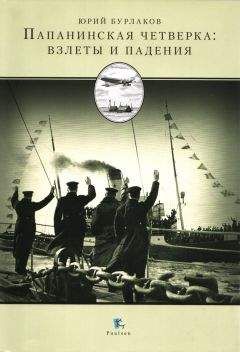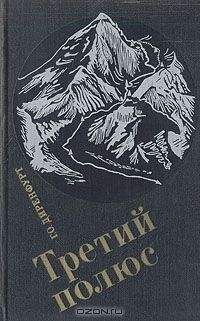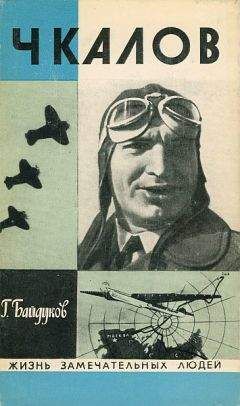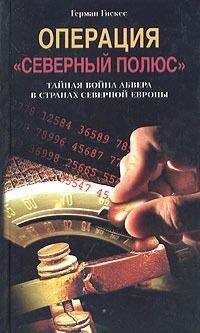Эрнст Кренкель - RAEM — мои позывные
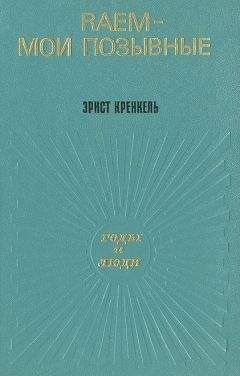
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "RAEM — мои позывные"
Описание и краткое содержание "RAEM — мои позывные" читать бесплатно онлайн.
Известный полярник, Герой Советского Союза Э.Т. Кренкель рассказывает в своих воспоминаниях о героических этапах освоения Арктики. Автор книги участвовал в походах «Сибирякова» и «Челюскина» с О.Ю. Шмидтом и В.И. Ворониным, летал на дирижабле «Цеппелин» с Умберто Нобиле, дрейфовал на льдинах с «лагерем Шмидта» и с первой советской станцией «Северный полюс», возглавляемой И.Д. Папаниным, зимовал на маленьких полярных островах. Интересны его встречи с лётчиками Чкаловым, Леваневским, Водопьяновым, Молоковым, с учёными Бонч-Бруевичем, Визе, Самойловичем, с отважными полярниками и моряками.
Книга насыщена колоритными подробностями и вся пронизана добрым юмором.
Помимо топографической съемки и составления карт, зимовщики делали геологические разрезы и геологические карты, установили семнадцать опорных астрономических пунктов, обнаружили магнитные аномалии, собрали ботанико-зоологическую коллекцию, вели наблюдения за приливами и отливами…
Да, это были настоящие люди. Собранные, подтянутые, без полярных бород, блистая чистотой и аккуратностью, они видели в своей деятельности не какой-то высокий подвиг, а работу, которую надо было выполнять каждый день, с той же аккуратностью, что и бритье.
Докладчики кончили свои сообщения. Стены кают-компании задрожали от аплодисментов. За аплодисментами сам собой зазвучал «Интернационал» как символ великой идеи, ради которой все мы забрались так далеко на север.
Между Диксоном и Северной Землей мы наверстали время, потраченное на ожидание «Вагланда», и теперь, обладая картой, составленной Ушаковым и Урванцевым, грех было не пройти путем, которым не проходил еще ни один корабль в мире.
Таких неведомых путей нам открывалось три: пролив Шокальского, существование которого до съемок Ушакова и Урванцева считалось весьма проблематичным, пролив Красной Армии и, наконец, обход всего архипелага Северной Земли. Капитан Воронин, которому, как сказочному богатырю, были предоставлены на выбор все эти три варианта, проявил богатырскую осторожность и на рожон не попёр.
— Конечно, — сказал наш капитан, — при обходе всего архипелага можно встретить льды. «Сибиряков» с ними управится, сами видите, какой год удачливый. А в проливы я бы соваться не советовал. Пусть туда сначала сползают гидрографы и промеряют глубины. Наша задача — поскорее попасть в Тихий океан.
Мы плыли на север. На 81° северной широты нас встретили хозяева этих мест. Медведица и медвежонок с любопытством, присущим этим зверям, взирали на «Сибирякова». Жажда трофея восторжествовала над гуманными чувствами, и медвежонок остался сиротой.
Умелые матросы быстро отгородили на палубе место, куда и был посажен вольный сын Арктики. Бортмеханик Игнатьев взял его под свою опеку. Облизывая с палки сгущенное молоко, медвежонок поплыл на восток, навстречу своей судьбе. А судьба ему выпала необычная. После того как, проплыв через северные моря и Тихий океан, «Сибиряков» добрался до берегов Японии, экспедиция подарила медвежонка микадо — японскому императору.
Почти одновременно мы встретились с медведями и со льдами. Не сразу скажешь, что же произвело большее впечатление. Вопли Феди Решетникова: «Айсберг!» — прежде всего пробудили зверя в руководителе нашей киногруппы Шнейдерове. Не снять эту ледяную гору и впрямь было бы преступлением. Не удивительно, что Шнейдеров тотчас же рванулся к Шмидту:
— Отто Юльевич, помогите! Надо немедленно спустить шлюпку и заснять с воды айсберг и наш ледокол для того, чтобы зритель представил себе размеры этой ледяной горы.
Сомневаться в ответе не приходится. Конечно, Шмидт разрешил киногруппе спуститься в шлюпку. Кадр получился впечатляющим: маленький, словно игрушечный, кораблик «Сибиряков» плывет подле исполинской ледяной горы. Жаль только, что черно-белое кино оказалось не в состоянии передать другое: сказочную прозрачную арктическую синеву — эту удивительную краску северной палитры, которой были словно пронизаны ледяные горы.
Одинокие айсберги выглядели какими-то фантастическими пришельцами из другого мира, приблизившимися к нашему кораблю, чтобы познакомиться с ним и его обитателями. Они были огромны, но при желании ледяную гору можно было и обойти. Иное дело — стена пакового льда. Стоявшая чуть дальше, на севере, она воспринималась как великая сила, против которой человек еще слаб и немощен. Паковый лед маячил на горизонте. Он стоял как отрубленный, высотой в несколько метров, без каких-либо разводьев. Одним словом, монолит, исключавший какую-либо возможность проникнуть дальше.
Посмотрев на ледяной дозор, на стену, непробиваемую для любого ледокола, как-то незаметно для самих себя притихли наши корреспонденты, а «Сибиряков» повернул на восток, затем на юго-восток и вышел на трассу, которой обычно следуют корабли вдоль побережья Сибири.
Написать эти несколько фраз было делом одной минуты. Пройти участок от Северной Земли до материка оказалось куда более серьезным.
Наш путь проходил сквозь торосистый лед, который, если воспользоваться сухопутными сравнениями, больше всего напоминал тайгу. Ледяные завалы, торосы, полыньи — все смешалось здесь в кучу, в ледяную чащобу, через которую и предстояло продраться «Сибирякову». Что говорить — прогулка не из приятных, но не продираться было нельзя.
Пять миль потребовали напряженной сорокачасовой работы. Капитан приказал нашему старшему механику Матвею Матвеевичу Матвееву поднять давление пара до максимума. Ледокол то отступал назад, то прорывался вперед, круша лед и прокладывая себе дорогу.
То, что произошло с нами в эти часы и минуты, содержало полный набор арктических неприятностей. Сначала, содрогаясь от напряжения, работал во всю мощь своих 2400 сил ледокол. Затем инициатива перешла в руки людей — началась обколка. Вооруженные пешнями (ломами с деревянными рукоятками), шестами и баграми, люди не давали льду оклеить, словно липучкой, борт нашего ледокола.
Работали в темпе. Пешнями обкалывали лед, а шестами и баграми по узкому каналу между ледяным полем и кораблем выталкивали льдины назад, за корму. Ледокол обретал пусть небольшую, но свободу. И тогда машины давали задний ход, отводя корабль назад, чтобы бросить его рывком вперед и расколоть впереди расположенный лед.
Одним словом, вся эта процедура напоминала попытку раскачать и сдвинуть с места автомобиль, буксующий на грязной, скользкой дороге. И там и тут приятно ощущать, что именно ты добавляешь могучей машине то крохотное «чуть-чуть», без которого она оказалась бы бессильной. Разумеется, закончив обколку, люди не оставались на льду. С пешнями, шестами и баграми они, словно средневековые пираты, идущие на абордаж, кидались на борт ледокола.
Поначалу паровой и мускульной силы для продвижения ледокола более или менее хватало. Потом в ход пошло самое крайнее средство — взрывчатка.
Вместе с аммоналом, бикфордовым шнуром и взрывателями, на которых я спал от Москвы до Архангельска, на льдине появился Малер, чувствовавший себя к тому времени уже бывалым полярником. По его указанию долбили лунки, закладывали аммонал, и столбы буро-желтого дыма отмечали ту линию разлома, по которой должен был треснуть лед. Я не случайно воспользовался словами «должен был», потому что сначала лед не очень-то хотел разламываться. Однако практика — критерий истины. Нащупав нужные дозы аммонала, Малер стал неплохо справляться со своими обязанностями. Через сорок часов после начала операции, в которой приняли участие все роды нашего полярного оружия, «Сибиряков» вышел на чистую воду.
В море Лаптевых Арктика снова выглядела великодушной и доброжелательной. По голубизне воды оно соперничало с морями южных широт. Мы загорали под солнцем, которое, как и положено ему в полярное лето, не заходило за горизонт.
И все же нам было не до веселья. Все попытки связаться по радио с берегом, которые настойчиво предпринимали мы с Гиршевичем, успеха не имели. Ни одна из станций — ни на острове Ляховском, ни в бухте Тикси — на вызовы не отвечала. Для меня и моего коллеги это были в высшей степени ответственные минуты. Мы звали, слушали, снова звали, снова слушали, но нужных голосов поймать в эфире не могли.
Создавшаяся ситуация выглядела весьма безрадостно. Уголь должен был ждать нас в Тикси. Туда по Лене намечено было спустить угольную баржу, но пришла ли она? Эфир загадочно молчал.
Руководителям экспедиции пришлось решать сложную задачу. Если баржа пришла, то надо обязательно заходить в Тикси. Если же нет, то мы теряли на этот заход несколько десятков тонн угля и драгоценное время. Произнести «да» или «нет» в таких условиях было делом чрезвычайно ответственным. Полные сомнений, мы все же двигались к устью Лены, не зная, что нас там ждет.
Правда, круглосуточное прослушивание эфира принесло все же свои плоды. Увы, они были не очень радостными. 25 августа Гиршевич перехватил радиограмму Н. И. Евгенова, адресованную в Якутск. Опытный гидрограф и капитан дальнего плавания, ученый и практик, Евгенов возглавлял Особую Северо-восточную полярную экспедицию — большой караван судов, которые ледорез «Литке» вел навстречу нам, с востока на запад.
Пойманная радиограмма еще раз заставила нахмуриться Владимира Ивановича Воронина. Евгенов сообщал, что из-за тяжелых льдов в районе Чукотки «Литке» еще не довел свой караван до Колымы. Да, уж тут было не до шуток, а береговые станции по-прежнему зловеще молчали, словно какая-то эпидемия чохом истребила всех радистов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "RAEM — мои позывные"
Книги похожие на "RAEM — мои позывные" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эрнст Кренкель - RAEM — мои позывные"
Отзывы читателей о книге "RAEM — мои позывные", комментарии и мнения людей о произведении.