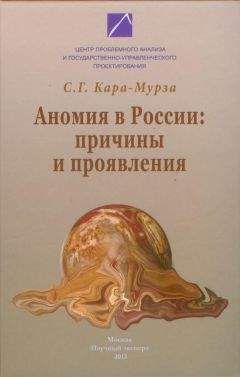Доминик Ливен - АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Описание и краткое содержание "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914" читать бесплатно онлайн.
Книга известного английского историка, специалиста по истории России, Д. Ливена посвящена судьбе аристократических кланов трех ведущих европейских стран: России, Великобритании и Германии — в переломный для судеб европейской цивилизации период, в эпоху модернизации и формирования современного индустриального общества. Радикальное изменение уклада жизни и общественной структуры поставило аристократию, прежде безраздельно контролировавшую власть и богатство, перед необходимостью выбора между адаптацией к новым реальностям и конфронтацией с ними. Три различные модели поведения класса, утратившего свои позиции, реализованные в трех империях, во многом предопределили их судьбы в потрясениях XX века. Исследователь касается следующих аспектов проблемы; образование и культура, источники дохода (земельные владения, леса, промышленность), аристократия и война, аристократия и политика, жизнь и нравы, этикет и т. д.
Сочетание точного, статистически документированного анализа с широким кругозором и тонким пониманием не полной предопределенности исторического развития делает эту книгу по-своему увлекательным и поучительным чтением.
Бранденбургский дворянин, пожелавший подражать английским обычаям, должен был выделяться богатством среди соотечественников, но даже при этом условии ему приходилось довольствоваться стилем жизни заурядной английской сельской дворянской семьи, а не земельного магната. Карл фон Хертефельд, состоятельный отпрыск старинного знатного рода, владелец прекрасного дома, библиотеки, парка и поместья Либенберг, представлял собой образец прусского англофила. С детских лет Хертефельд разделял присущую сельской знати страсть к лошадям и собакам. Его англофилия зародилась в результате длительного визита в Британию в 1814 г., хотя ей, по всей видимости, немало способствовала и участие в рядах английских войск в битве при Ватерлоо. Эта англофилия выражалась во множестве проявлений, среди которых выделим постоянную заботу о сельскохозяйственных усовершенствованиях и либерально-консервативные политические взгляды. Но, разумеется, прежде всего Хертефельд был страстным приверженцем охоты и скачек в английском стиле. Он разводил скаковых лошадей, и, вместе с друзьями, создал в Берлине ипподром. Чтобы тешить свою страсть к охоте, он арендовал леса и пустоши за пределами своих владений. После 1848 г. ему пришлось отказаться от охоты в английском стиле, отчасти потому, что теперь его внимание было приковано к другому английскому новшеству, а именно к парламентской политике, в которой он играл активную роль, в итоге обеспечив себе место в Прусской Верхней палате (Herrenhaus). В 1867 г. Хертефельд умер бездетным, и поместье перешло к его внучатому племяннику, графу Филиппу Эйленбергскому. Сын графа был ближайшим другом последнего кайзера, и со временем Либенберг стал излюбленной загородной усадьбой Вильгельма II[263].
Однако, подражание образу жизни английской аристократии зачастую требовало не только денег, и это подтверждает пример с охотой на лис. Благородному охотнику необходимы были огромные равнинные пространства, чтобы он и его друзья могли скакать во весь опор, сметая все на своем пути. Необходимы были также и лисы, чьи норы, используя законы об охране дичи или же социальное давление, нужно было оберегать от фермеров, стремившихся истребить хищников. В Англии, где большинство земель находилось в руках аристократов и трепетавших перед ними арендаторов, которые получали изрядные компенсации за причиненный ущерб, а зачастую и сами были страстными охотниками, все эти условия успешно выполнялись, по крайней мере, до начала 1880-х годов. На континенте, где преобладали мелкие крестьянские фермы, ситуация была совершенно иной. Попытки английских эмигрантов устроить на севере Франции охоту на лис в привычном им национальном стиле привели к столкновениям с полицией и крестьянами. Русские и немецкие крестьяне во второй половине девятнадцатого века также были не склонны безропотно взирать, как их посевы вытаптываются благородными охотниками. Так же, как и во Франции, к этому времени они могли в своих протестах опираться на поддержку закона.
В России, согласно наблюдению негодующего английского путешественника, «до сих пор не издано ни единого закона об охране дичи», хотя с точки зрения англичанина уже к началу 1800-х годов подобные законы стали насущной необходимостью. Уильям Тук с удивлением отмечал в 1799 г.: «Когда охотник вместе с друзьями, егерями и гончими пересекает поля и леса, не заручившись наперед разрешением владельца, это неизменно воспринимается, как должное. Лишь малая часть помещиков запрещает своим подданным ходить с ружьями; но и в случае запрещения достигается результат, совершенно противоположный желаемому, и вред, причиненный украдкой, оказывается куда больше явного»[264].
Даже в 1865 г. путеводитель Марри советовал английским охотникам не рассчитывать, что battue в России принесет им завидную добычу, так как эта страна, в особенности поблизости от С.-Петербурга, не слишком богата дичью. «Зимой охотятся на медведей, волков, лосей и рысей <…> На волков устраивается или псовая охота, или же обычная облава, а порой их просто затаптывают лошадьми. Но такая охота требует плотного снежного покрова, или же земли, по которой можно скакать верхом». Даже конная охота в России редко напоминала традиционную английскую, с хорошо натасканными сворами гончих и псарями, одетыми в нарядную форму, оплаченную из кармана представителя местной знати. Подобные явления в России, в особенности в двадцатом столетии, как правило, относились к разряду исключительных — так, роскошные охоты устраивал великий князь Николай Николаевич, а также Школа кавалерийских офицеров — иными словами, они были доступны или членам императорской семьи, или государственным учреждениям[265].
Единственным исключением из этого правила являлись прибалтийские губернии Российской империи. Здешние помещики, по преимуществу немецкого происхождения, по-прежнему владели огромными сворами гончих и устраивали охоты в английском стиле, хотя к началу двадцатого века — так же, как и в самой Англии — редко кто из аристократов единолично брал на себя полное содержание собачьей своры. Журнал «Столица и усадьба», помимо всего прочего, связывает уникальную способность балтийских землевладельцев сохранять охотничьи традиции со следующим обстоятельством: в отличие от большинства русских аристократов, балтийское дворянство проводило в своих имениях круглый год. К тому же, законы, царившие во всецело феодальной Прибалтике, по-прежнему сохраняли за владельцами дворянских усадеб (Rittergütter) право охотиться с собаками[266].
В Германии истинные представители аристократии вели весьма решительные арьергардные бои в защиту своих охотничьих прав. Хельмут фон Герлах, рассуждая о юнкерах, отмечает, что «невозможно понять консервативных крупных землевладельцев до тех пор, пока не осознаешь, какое важное место в их жизни занимает охота». С весны до осени они со страстью предавались самому важному своему занятию — охоте на различных животных. Охотничьи права знати повсеместно вызывали негодование у сельского населения, отчасти потому, что они обязывали крестьян всячески содействовать благородным охотникам и предоставлять им загонщиков. Но еще серьезнее был вред, который причиняли скоту и посевам дикие животные — крестьянам же по традиции искони запрещалось не только использовать против них оружие, но даже строить надежные ограждения для своих полей и скота. Французская революция, уничтожив охотничьи права, усилила напряжение, которое связанные с охотой проблемы возбуждали в сельской местности Германии, и в 1848 г. разразился взрыв. Представители знати, защищая свои охотничьи права, проявили намного больше упорства, чем отстаивая прочие права и привилегии, которые они, в случае удовлетворительной компенсации, уступали практически без борьбы. Подобная несгибаемость в отношении охотничьих прав обуславливалась тем, что для некоторых аристократов именно охота была самым излюбленным удовольствием и более всего скрашивала сельскую жизнь. К тому же, охотничьи навыки относились у дворянства к числу наиболее древних и почитаемых. Но, возможно, прав X. В. Экхардт, усматривая здесь элемент оборонительной групповой психологии, характерной для класса, который все сильнее ощущая себя лишним и подвергаясь нападкам, упорно защищал свои охотничьи права, дабы оградить от вторжения современного мира хотя бы одну сферу жизни, которая традиционно являлась монополией аристократии и сохраняла для нее главенствующее значение[267].
Однако в 1848–1850 гг. аристократия, как правило, терпела в этой битве поражение. В Пруссии, Баварии и некоторых других германских государствах охотничьи права дворянства были отменены навсегда, причем без всяких компенсаций. В Ганновере, Саксонии, Бадене и Брюнсвике за них полагался выкуп. В 1848 г. крестьяне начали настоящую войну против диких животных, неуклонно уничтожая их, и в результате количество дичи, обитавшей в сохранившихся небольших дворянских усадьбах резко сократилось. Адам Шваппах писал в 1883 г., что «пересмотр охотничьих законов, исчезновение дичи и отказ от обязанности способствовать охотникам привели к тому, что старые методы охоты претерпели важные изменения. Прежние охоты, проводимые с большим размахом, и величайшая их гордость — преследование зверя с гончими собаками, почти полностью отошли в область воспоминаний, и исключения становились все более редкими»[268].
На их место пришла стрельба из засады, которая к 1914 г. стала популярнейшим времяпрепровождением аристократии — для некоторых ее представителей подобная охота стала, в сущности, настоящей страстью. Стрельба-battue требовала куда меньшей ловкости и храбрости, чем конная охота на лис или пешее преследование крупного зверя. Современное огнестрельное оружие и патроны, не говоря уже об искусственном разведении диких птиц, позволяло аристократам возвращаться с охоты с полными сумками дичи; охотничья добыча стала предметом состязания и подсчитывалась с азартом, который предки этой знати направляли на более важные дела. Пожалуй, наиболее отталкивающей была охота на чрезвычайно редких диких животных, например, на силезских зубров, или даже на экзотических зверей, специально приобретавшихся в зоологических садах и становившихся мишенью наиболее выдающихся участников охоты. В 1913 г. егерь едва не набросился с кулаками на молодого адъютанта: тот, по его словам, навел ружье на кенгуру, приберегаемого для королевских гостей, прибывающих на бракосочетание дочери кайзера, которому сопутствовали различные развлечения, в том числе и охота. Этот случай свидетельствует о причудливом соединении аристократической страсти к охоте, современных транспортных средств и технических успехов в области баллистики[269].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Книги похожие на "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Доминик Ливен - АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914"
Отзывы читателей о книге "АРИСТОКРАТИЯ В ЕВРОПЕ. 1815—1914", комментарии и мнения людей о произведении.