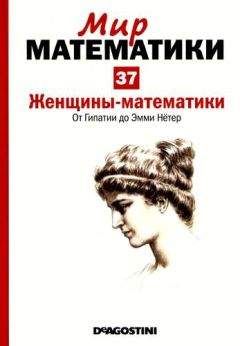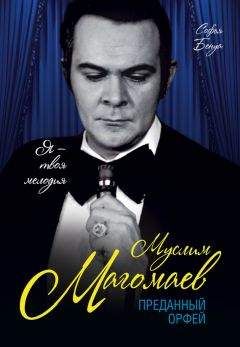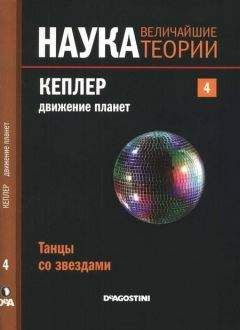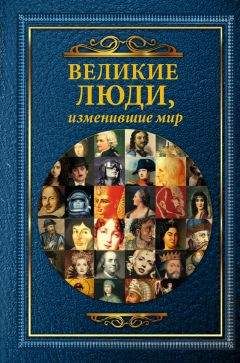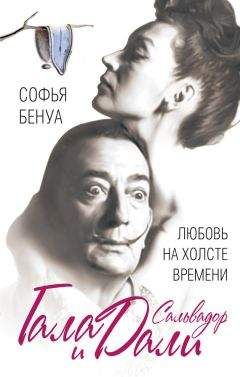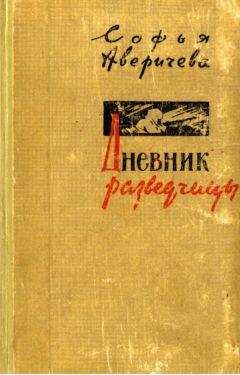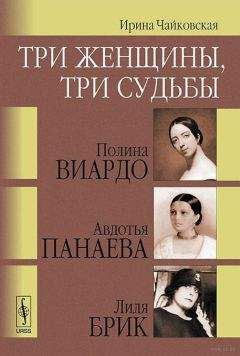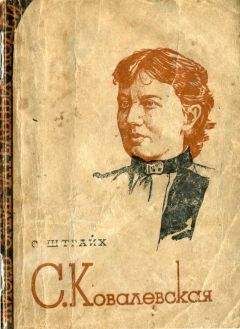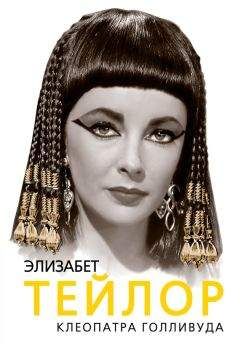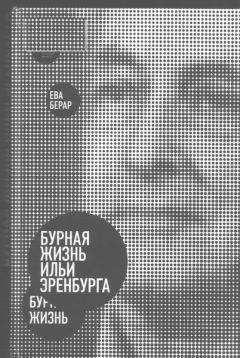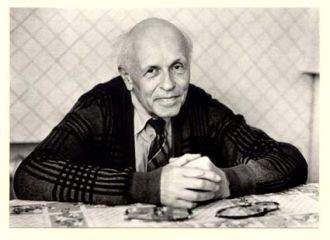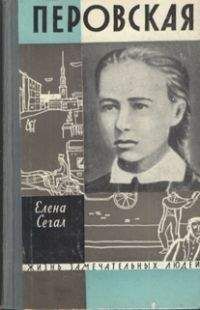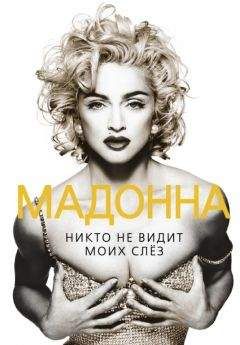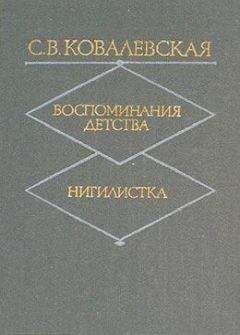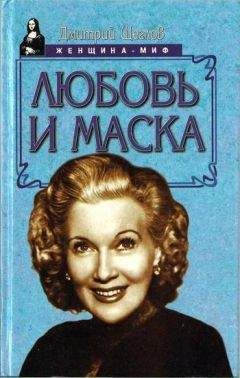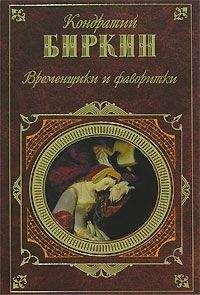Любовь Воронцова - Софья Ковалевская
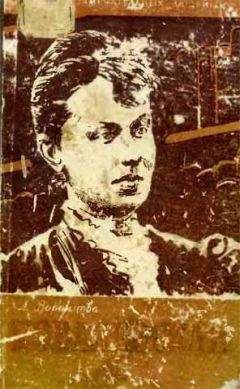
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Софья Ковалевская"
Описание и краткое содержание "Софья Ковалевская" читать бесплатно онлайн.
Эта книга посвящена Софье Васильевне Ковалевской — первой русской женщине-ученой, человеку яркой судьбы и выдающегося таланта. Вся ее богатая событиями жизнь была самоотверженной борьбой за право служить науке. Рано обнаружилось у Ковалевской математическое дарование. Но получить высшее образование в России было для нее в условиях того времени неосуществимой мечтой. Заключив фиктивный брак с таким же, как она, человеком широких взглядов В. О. Ковалевским, Софья Васильевна получила возможность уехать учиться за границу. Много труда стоило ей и там пробить себе дорогу к науке, к полезной деятельности, преодолеть общее предубеждение против женщины-ученой. Но так ярок был ее талант, так велика тяга к науке, что величайшие ученые мира должны были признать ее своей достойной коллегой. Ковалевская получила кафедру в Стокгольмском университете. В России ей не нашлось места, но для всех русских женщин, ищущих знаний, живого дела, равного с мужчинами положения в обществе, она явилась той светлой точкой, к которой устремлялись их мысли. Ковалевская была человеком многогранным. Ее друзьями были и революционеры, и ученые, и писатели. Ей самой принадлежит ряд художественных произведений и среди них неоконченная повесть о Н. Г. Чернышевском «Нигилист».
Автор книги Любовь Андреевна Воронцова — журналистка. Книга, написанная ею, — результат долгого и увлеченного труда, попытка создать поэтическую и в то же время документированную биографию большой ученой.
Софья Васильевна порадовалась, что отдохнула, окрепла и нет надобности отдавать себя в руки эскулапов. Но виденное и слышанное в больницах не давало ей покоя. В ней заговорила журналистка, и Ковалевская, не удержавшись, написала два живых, остроумных, едко критических очерка о посещении парижских больниц, послала их в «Русские ведомости», где они и были напечатаны под псевдонимом Софья Нирон.
Вскоре ей снова пришлось проявить свой публицистический талант, но по другому — трагическому для русских демократически настроенных людей — поводу.
28 апреля 1889 года умер M. E. Салтыков-Щедрин.
Шестидесятник-эмигрант Е. В. де-Роберти и П. Л. Лавров попросили пользовавшуюся большой популярностью в русской колонии Софью Васильевну взять на себя инициативу подписки на венок Салтыкову-Щедрину и посылки сочувственной телеграммы его вдове от различных русских кружков в Париже.
Софья Васильевна с готовностью взялась за это. Но оказалось, что многие из соотечественников, находившихся во Франции, выразили опасение, как бы в подобном акте изъявления скорби по поводу смерти великого писателя царское правительство не усмотрело «потрясения основ». К телеграмме Ковалевская не смогла собрать и десяти подписей и, разгневанная, написала Максиму Максимовичу:
«…Какую массу пошлости я насмотрелась в эти два дня, вы представить себе не можете! В результате — почти полная неудача, усталость, неимоверная досада на самое себя, зачем я связалась с этими пошляками, и почти физическое ощущение, что я эти два дня провозилась с чем-то очень неопрятным…»
С именем великого писателя-борца для нее связывались самые светлые, самые незабываемые воспоминания о революционном подъеме в России. Произведения Салтыкова-Щедрина звучали как страстный голос неподкупной совести в черные годы реакции. Софья Васильевна хотела рассказать о нем французам так, чтобы они поняли, кого потеряло человечество со смертью русского писателя.
«Еще одно блистательное имя вычеркнуто из списка имен той плеяды великих писателей, которые родились в России в первую четверть нашего века и которые стали известны и любимы за границей почти столь же, как и в своей стране», — так начала Софья Васильевна очерк о благороднейшем представителе поколения революционных демократов, чью правдивую, протестующую речь могла заставить умолкнуть одна только смерть.
«Талант Щедрина, — писала Ковалевская, — с большой силой проявил себя в разных литературных жанрах, но главное призвание писателя была сатира, жанр, более других связанный с родной почвой: слезы повсюду одинаковы, но смеется каждый народ по-своему. Вот почему сатирика с трудом понимают в другой стране. А главное, что мешает иностранцу оценить силу дарования Щедрина — это «Эзопов язык», к которому он вынужден был прибегать, чтобы голос его мог прорваться через барьеры запретов и достичь слуха читателя. И как поразительно умели читать между строк в России люди, подготовленные к этому прессом царской нетерпимости к свободной мысли. Нечто вроде незримого единения и таинственного понимания установилось между публикой и любимым автором!»
Да и сам Салтыков-Щедрин не скрывал того, что он приучил себя писать как можно больше слов, чтобы из множества их хоть что-нибудь осталось, дошло до сознания. «Моя манера писать, — говорил он, — есть манера — рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов доведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту значительной части произведений русского искусства, и я лично тут ни при чем».
С. В. Ковалевская подробно разобрала произведения Салтыкова-Щедрина, трогавшие ее сильнее всего по созвучию с ее мыслями. Взяв рассказ «Больное место», она раскрывала гнусность той государственной системы, которая слабого, по-своему даже не злого человека, способного к любви и нежности, превращала в негодяя. Писатель-сатирик показал мрачную драму, разоблачавшую полицейский режим, не употребив ни разу слова «сыщик». Но русский читатель, даже малообразованный, не мог ошибиться.
Ковалевская говорила, что была бы счастлива, найдись во Франции литератор, который бы понял Щедрина так, как понимаем его мы, русские, и истолковал его своим соотечественникам. Тем более что Щедрин выражал самую пылкую симпатию к стране Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана, Жорж Санд. «Оттуда, — писал он в статье «За рубежом», — лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас… Словом сказать, все доброе, все желанное, любвеобильное — все шло оттуда».
Особо выделяла Ковалевская тот факт, что именно Салтыков-Щедрин, в отличие от других писателей, изображавших несчастную судьбу крепостных крестьян, первым указал на губительное, растлевающее влияние, которое оказывало крепостное право и на самих господ.
Она охарактеризовала «Историю одного города» — «на самом деле беспорядочно шумную историю Российской империи» — как одно из значительных произведений Щедрина, которое не утратит интереса и для будущих поколений.
Глубокого предвидения были исполнены заключительные слова ее очерка, спешно написанного, хранившего теплоту сердечной взволнованности: «Его имя останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли… Кто живет для своего времени, тот живет для всех времен».
И еще одно событие до боли разбередило у Ковалевской неутихающую тоску по родине. 14 июля, в столетнюю годовщину взятия Бастилии, в Париже открылся Международный рабочий конгресс, на котором, по выражению Фридриха Энгельса, была представлена «вся Европа». Софью Васильевну пригласили на конгресс как представительницу русских женщин — выдающуюся поборницу женского движения. Она присутствовала на исторически важных заседаниях, на которых был дан идейно подготовленный Энгельсом бой оппортунизму в рабочем движении.
Открывая конгресс, друг Виктора Жаклара Поль Лафарг отметил социалистический характер этого съезда марксистов всех европейских стран и Америки. А от имени русских социал-демократов выступил Г. В. Плеханов, провозгласив, что «революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может».
То, что сказал конгресс по одному из основных вопросов — рабочему законодательству, — мало походило на смутные предчувствия Ковалевской, которые она пыталась выразить в пьесе «Борьба за счастье».
Конгресс заявил, что освобождение труда и человечества может исходить лишь от классового и интернационально организованного пролетариата, который завоевал для себя политическую власть с целью добиться экспроприации капитализма и осуществить захват обществом средств производства.
Как далеко ушел в своем самосознании подлинный рабочий от тех тружеников, каких изобразили писательницы в своей громоздкой драме! Но Софья Васильевна была довольна, что смогла в бушующем океане борьбы угадать выходящую на первый план главную революционную силу — рабочий класс, который называла «четвертым сословием».
Да, он поднимается, великий «девятый вал». Отодвигаются в глубь времен светлые тени первых народников, с жертвенной экзальтацией выступавших против несправедливости. Здесь, на конгрессе, и женщины не отважные одиночки. С какой уверенностью говорит эта маленькая немка, Клара Цеткин, от имени рабочих о роли и значении женщин в революционном движении пролетариата. Как убеждены в своем праве требовать все эти женщины-ораторы, впервые поднявшиеся на международную трибуну на равных началах с мужчинами как делегаты своего класса! Очевидно, наступает новая эра в социальной борьбе, а она, Ковалевская, с такими потерями отвоевывавшая каждый шаг вперед, сидит как гостья, как почетная представительница — и только…
ОБРАЗЫ РОДИНЫ
К началу осеннего семестра в университете Софья Васильевна вернулась в Стокгольм в тяжелом душевном состоянии. Работала она с какой-то отчаянной решимостью, заканчивая свое дополнительное исследование о движении твердого тела. Ей надо было успеть представить его на конкурс. За эту работу Ковалевской была присуждена Шведской академией наук премия короля Оскара II в тысячу пятьсот крон.
Успех не радовал ее. Не успев по-настоящему отдохнуть, полечиться, она опять надорвала здоровье.
В таком состоянии Софья Васильевна не могла заниматься математикой и обратилась к литературе. Она отдала «Воспоминания детства» перевести на шведский язык, прочитала их в литературном кружке «Нья Идун»[16], и встретила единодушное одобрение. Но стокгольмские друзья не советовали издавать воспоминания от первого лица: «Здешнее общество найдет неприличным, что молодая женщина столь откровенно рассказывает об интимной жизни своих родителей». О, этот самодовольный, непогрешимый господин директор Пальме! Это всемогущее «общественное мнение»… Софья Васильевна вынуждена была последовать совету друзей и издать воспоминания как повесть «Сестры Раевские».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Софья Ковалевская"
Книги похожие на "Софья Ковалевская" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Любовь Воронцова - Софья Ковалевская"
Отзывы читателей о книге "Софья Ковалевская", комментарии и мнения людей о произведении.