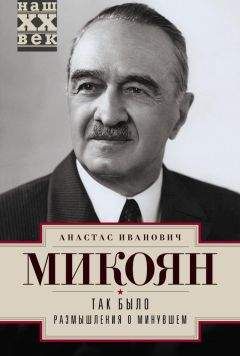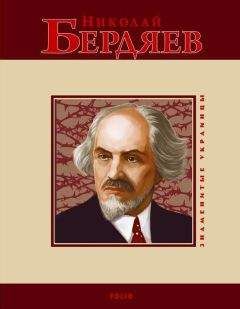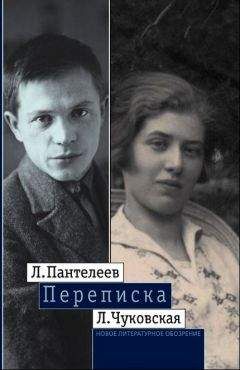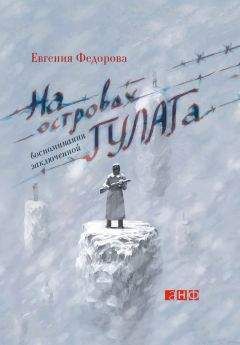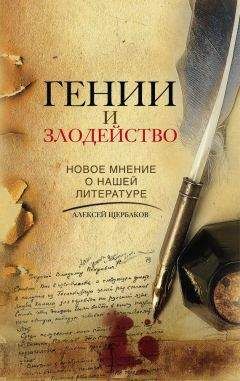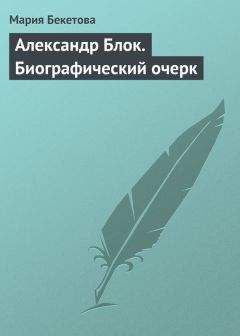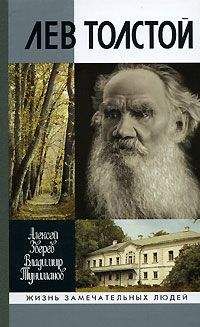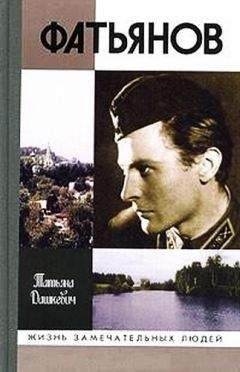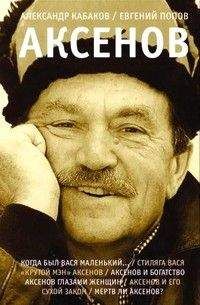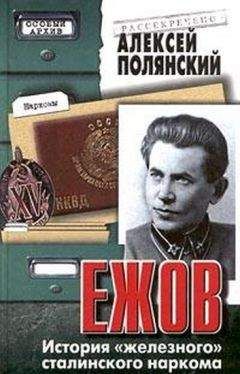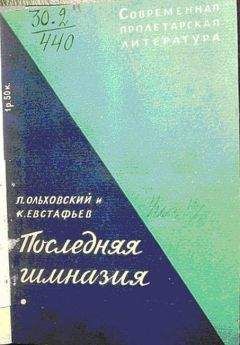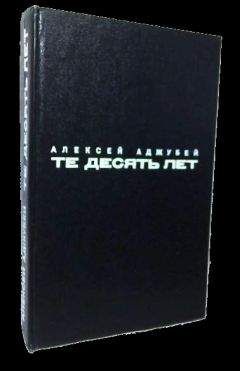Евгения Путилова - …Началось в Республике Шкид
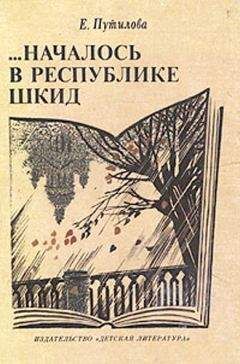
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "…Началось в Республике Шкид"
Описание и краткое содержание "…Началось в Республике Шкид" читать бесплатно онлайн.
Очерк жизни и творчества Леонида Пантелеева.
Более шестидесяти лет Алексей Иванович Пантелеев работает в литературе. Дважды издано четырехтомное собрание его сочинений, на многие языки нашей страны и стран мира переведены его книги.
Мы по праву с гордостью говорим о нем как о классике, как об одном из основоположников советской детской и юношеской литературы.
В апреле 1943 года Пантелеев подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой призвать его в армию. Он был направлен в Военно-инженерное училище в Болшеве, затем служил в инженерных войсках, был редактором ежедневной батальонной газеты «Из траншей по врагу».
Осенью того же года его отозвали из армии в распоряжение ЦК ВЛКСМ. Некоторое время он работал в Военном отделе, потом его направили на работу в издательство «Молодая гвардия». Несколько лет он был членом редколлегии журналов «Дружные ребята» и «Мурзилка».
В январе 1944 года по командировке ЦК ВЛКСМ Пантелеев едет в Ленинград: это было время решающих боев, окончательного разгрома немецкой группировки.
И вот снова Ленинград, город, уде все «до спазмов в горле, до слез, до сердцебиения знакомо». Целых — и каких! — полтора года прошло со времени отъезда. «Хожу, хожу — и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и — нагореваться». И казалось еще, целая жизнь прошла со дня приезда и до того лня, когда прозвучал салют в честь освобождения города от блокады. Не знаю, как описать и с чем сравнить мгновенье, когда на углу Ковенского и Знаменской толпа женщин — не одна, не две, а целая толпа женщин навзрыд зарыдала, кода мальчишки от чистого сердца — и также со слезами в голосе — закричали «ура», когда у меня у самого слезы неожиданно хлынули из глаз».
В 1947 году, отказавшись от предложения перебраться на постоянное жительство в Москву, Пантелеев в звании капитана запаса возвращается в родной Ленинград.
Так выглядела внешняя биография Пантелеева в годы Великой Отечественной войны. Но за этим стояла большая жизнь писателя-патриота, подлинного ленинградца. Он не растерялся в труднейших условиях, в каких находился почти год блокады: не имея возможности печататься и оружием слова участвовать в непреклонной борьбе, которую вели писатели за свой город, он работал ежедневно, уверенный в необходимости этой работы, убежденный, что об этих днях человечество должно будет узнать — и узнать всю правду. Потому и писалось ему «легко, как никогда легко и свободно». Вот декабрьская запись 1941 года:
«Сил нет, а тянет писать, работать. Сознание, как никогда, ясное… у стола моего до сих пор висит приколотый кнопками, начертанный еще в позапрошлом году девиз: «Nulla dies sine linea!». Плакатик закоптел, съежился, еле виден при свете коптилки, но — живет, вызывает, требует. Требует записывать то, что происходит вокруг, сегодняшнее, сиюминутное, писать правду и только правду (эти события лжи не потерпят…)».
В Музее истории Ленинграда хранится множество дневников времен блокады: обессиленные люди, не бравшиеся, быть может, никогда раньше за перо, считали себя обязанными запечатлеть по возможности дни и часы своей жизни, убежденный в том, что пережитое ими должно стать достоянием человечества и что дневник будет в этом смысле самым достоверным документом. Форма дневника, к которой стихийно обратились сотни никогда не писавших людей, оказалась близкой и многим литераторам. Не случайно одно из лучших произведений о блокаде получило название «Февральский дневник» (О. Берггольц), широко известны относящиеся к Ленинграду дневники военных лет Веры Инбер «Почти три года», Вс. Вишневского.
Давно уже были опубликованы и неоднократно переиздавались очерки Пантелеева «В осажденном городе» и «Январь 1944». В последней его книге «Приоткрытая дверь» (1980) большое место занимает раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)».
Страницы этого дневника открывают много нового о войне и о жизни писателя в эти годы.
Мы узнаем теперь больше и о московском периоде жизни писателя, нам становится ясно, почему Алексей Иванович не мог приспособиться ни к прекрасным условиям «генеральского» санатория в Архангельском, ни к госпитальным — на Пироговке, ни к шумному быту гостиницы «Москва», пока наконец не подал заявление в ГлавПУРРКА с просьбой мобилизовать его. И только тогда стало «лучше, чище и, главное, спокойнее». Много интересного и поучительного мы узнаем о буднях Военно-инженерного училища, о Москве с сорок второго по сорок седьмой год.
Как всегда, на первом месте люди, их чувства, мысли, поступки. Скупо, точно, без всякой аффектации образ времени возникает через такую, скажем, запись:
«Старуха в трамвае:
— Нет, братцы мои, я умирать сейчас несогласная. У меня все деточки на фронте. Вот война кончится, всех деточек своих повидаю, обниму, перецалую, а уж тогда — хороните меня с музыкой».
Резким контрастом к этим величавым словам покажутся иные:
«Тетка с очень тонкими подкрашенными губами:
— Всех жалеть — сердца не хватит».
Много будет еще московских впечатлений, но всегда рядом с ним Ленинград: то, что пережито там, невозможно забыть, невозможно не чувствовать постоянно.
Вот эпизод, отмеченный 2 августа 1942 года, когда он уже лечился в подмосковном «генеральском» санатории.
«Кормят нас — на убой. <…>
И тем не менее…
Сегодня за обедом вижу — мой сосед съел котлету, а гарнир, гречневую кашу, почти не тронул.
— Вы не будете? — говорю я.
— Что не буду?
— Доедать.
Недоуменно пожимает плечами.
— Нет.
И вот я спокойно придвигаю к себе его тарелку и ем недоеденную им кашу.
Он с удивлением и даже с некоторым ужасом на меня смотрит. Заметив этот взгляд, я говорю:
— Я — ленинградец, товарищ полковник.
Это отношение к хлебу и вообще ко всякой пище, как к чему-то священному, благословенному, вероятно, никогда не исчезнет».
Не случайно рядом с этой записью другая — переносящая читателя в Ленинград декабря 1941 года. Мама принесла ему, заболевшему, кусочек хлеба. Он неловко разломил его, и крошка упала на пол. Он не поднял ее сразу, но, лежа в постели, все время помнил: ему предстоит что-то приятное. «Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку — грамм или полтора черного хлеба!..» эта крошка хлеба запомнится на долгие годы.
Самые сильные страницы — и о людях, и о событиях, и о себе самом — приходятся на 1941–1942 году. Из многих записей, которые не оставят равнодушным читателя, особенное чувство вызывают две: одна под названием «Стыдно вспомнить, другая — «Радостно вспомнить». Читая их, понимаешь, как обострено все было в жизни каждого человека и в жизни Ленинграда, какими мерками — не только общечеловеческими, но еще и своими, ленинградскими — мерялся тогда каждый поступок, каждое побуждение человека.
«Написать! Непременно написать о нем, об этом гаде.
<…>
…Рассказать, поведать людям, что было и такое в героическом городе» — с таких слов начинается запись о соседе по больничной палате. Злобный сытый паук, утаивший от больничного начальства продуктовые карточки; с каким-то аже удовольствием он рассказывал о том, как безжалостно убивал животных.
Но так получилось, что по просьбе этого человека автор идет в булочную выкупать скопившийся за время пребывания в больнице его хлеб. Случайно узнав об этом, за ним увязался один мальчик, буквально задрожавший «от родившейся в его душе надежды». Там, в булочной, он даже не словами, а глазами будет умолять о довеске к кирпичику граммов в шестьдесят-семьдесят. Нет, взрослый не отдаст ему эту горбушку и произнесет полагающееся слова: Не могу, милый Лева… Это не мой хлеб. Это хлеб соседа моего Тадыкина».
Казалось бы, все сделано правильно. Почему же «стыдно вспомнить»? Потому, что он все время будет видеть этого мальчика, видеть, «как мгновенно погасли, стали тусклыми, мертвыми его глаза, как вытянулось его дистрофическое серое лицо». И из его души вырвутся слова другие, ошеломляющие: «Никогда не прощу себе, что не украл этого довеска. А что же было «радостно вспомнить»?
В памяти всплывает история, случившаяся еще в конце сентября, когда, попав по сигналу «тревога» в убежище, он увидел у своих ног зарывшуюся в стружки ленточку хлебной карточки. «Хлеб на декаду! Такие сокровища я находил только в детстве, во сне.
Протянул задрожавшую руку, незаметно поднял карточку, спрятал в карман. И потом — в течение десяти дней получал по ней хлеб». Карточка была рабочая, давали по ней тогда четыреста граммов в день. Как и все продовольственные карточки в то время, она была безымянная, на предъявителя. «В оправдание себе могу сказать, что уже на второй день я понял, что ем чужой хлеб. На третий день я не стал его есть, отдавал маме и Ляле.
А потом… потом, чем дальше, тем больше стала грызть меня совесть».
С помощью лупы разглядел печать учреждения, выдавшего карточку, и корешок ее не выбрасывал. «Он лежал у меня на столе — и мучил меня.
Звучит излишне громко, но я понял, что не смогу жить с этим грехом на душе. Понял, что должен искать эту женщину и отдать ей свой долг.
Четыре килограмма хлеба ни скопить, ни купить я не мог. Я стал собирать все, что можно было собрать. Тогда еще можно было. <…> за месяц я скопил продуктов, стоимость и калорийность которых значительно превышали стоимость и калорийность четырех килограммов черного хлеба. Я считал, подсчитывал, пересчитывал, складывал, умножал…»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "…Началось в Республике Шкид"
Книги похожие на "…Началось в Республике Шкид" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгения Путилова - …Началось в Республике Шкид"
Отзывы читателей о книге "…Началось в Республике Шкид", комментарии и мнения людей о произведении.