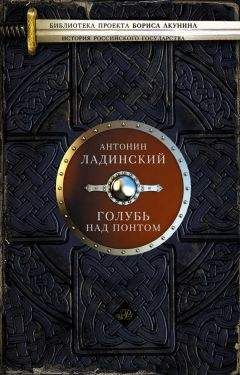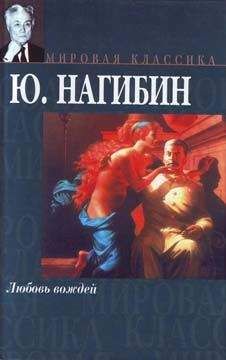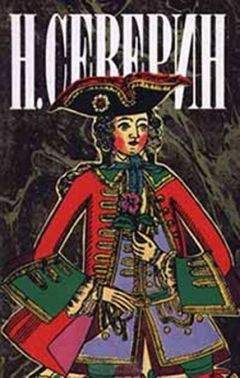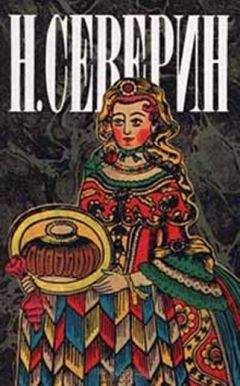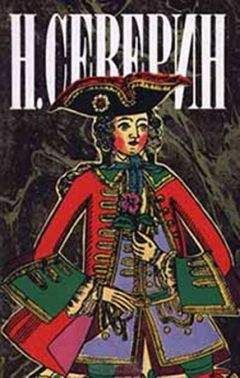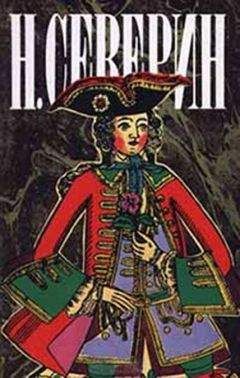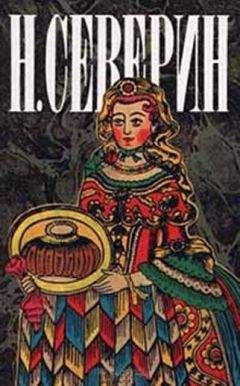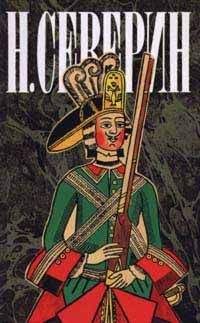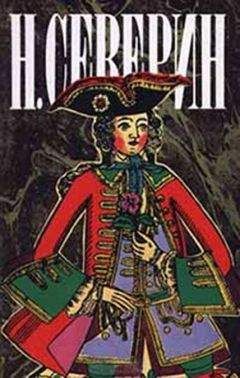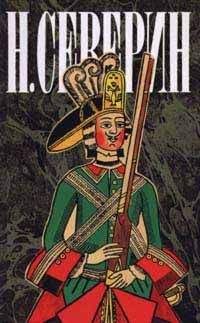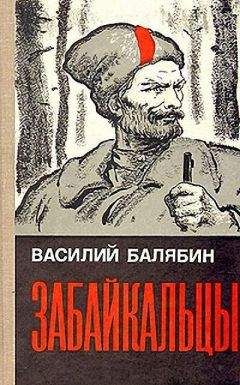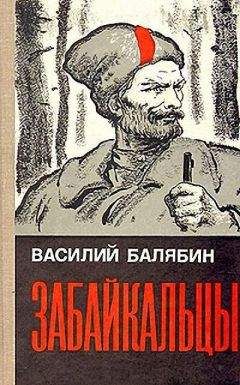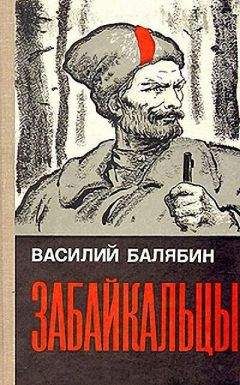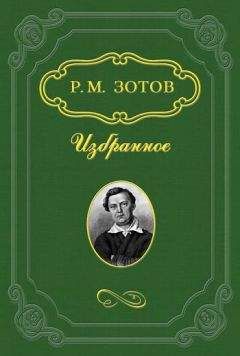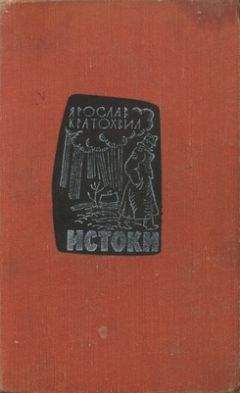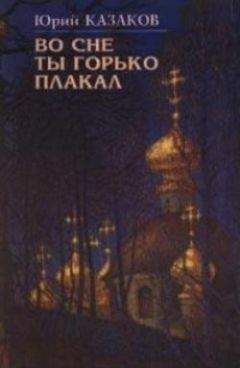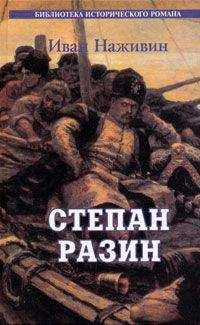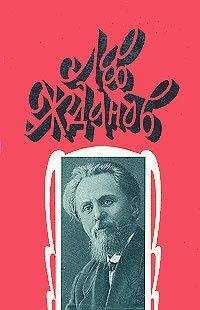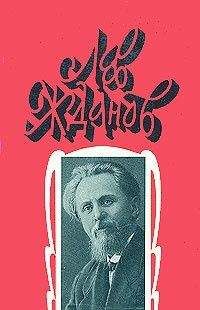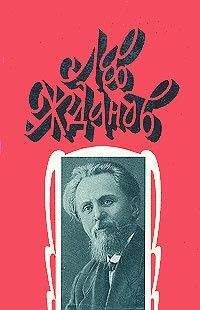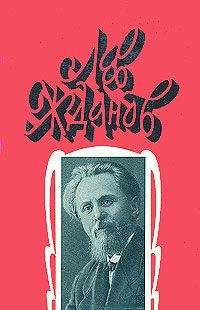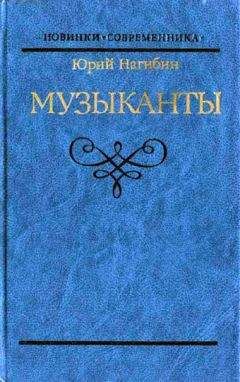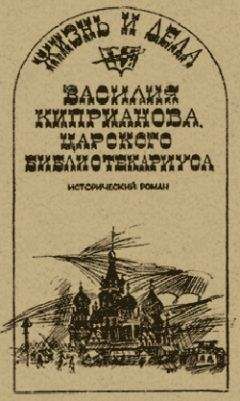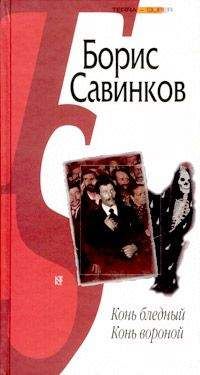Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
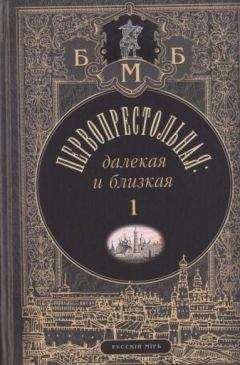
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Описание и краткое содержание "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать бесплатно онлайн.
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
Нил, проводив гостей, удалился в келию свою, чтобы поработать над своим уставом о жительстве скитском. Но сегодня ему не работалось: одолевали сомнения. «Для кого ты всё сие пишешь? — вопрошал себя старец. — Для всех или же для избранных? Ежели сказать — для всех, смущается разум: не вместят сего все, а сказать — для избранных, не принимает сердце: ежели спастися, то только всем». И кто-то третий, строгий, говорил властно, что не нужны эти заботы ни для всех, ни для избранных, что нужно заботиться только о душе своей: в ней — всё.
XI. СТЕНЫ КРЕМЛЁВСКИЕ
Пышно сияла погожая осень над землёй Московской. Москва шумела торгами своими бойкими, звоном колоколов церковных, постройками многочисленными: росла она, матушка, не по дням, а по часам, всё такая же деревянная, всё такая же деревенская, всё такая же нелепая. В особенности шумно, и суетливо, и пёстро было в Кремле. Толпы работного люда усердно трудились с восхода солнышка до захода его над разборкой старых стен и над возведением новых, которые медленно росли из песков Боровицкого холма. Гомонили, бесчинствовали и дрались, как всегда, холопы, дожидавшиеся с конями своих бояр, приехавших в Кремль к великому государю или в приказы. Снизу, от реки, на которой среди солнечного играния теснились барки тяжёлые, длинными вереницами вверх и вниз по взвозу тянулись подводы со всем, что для работы надобно было. Получал рабочий человек о ту пору в день за шестнадцать часов труда три копейки — и цена эта считалась ещё высокой. Хотя баран о ту пору стоил на Руси всего семь копеек, курица — две, ведро сметаны — пятачок, а фунт масла коровьего — полторы копейки и хотя для мужика всю одёжу изготовляли зимой бабы из своего добра, и она, таким образом, как будто ничего не стоила ему, — всё же, несмотря на всю эту дешёвку, всё это добро было для мужика недоступно и он должен был довольствоваться капустой кислой, чёрными сухарями да водой.
Москвичи, от самого знатного боярина до последнего нищего, все ходили в Кремль поглядеть на постройку и подолгу стояли там, словно заколдованные. Пусть хорохорится Литва с Польшей, пусть недобрым шумом шумит ещё народ новгородский, пусть иногда проскачет Москвой баскак татарский в Сопровождении конников с длинными пиками, на которых конские хвосты мотаются, но — сила растёт. И на ушко передавали бояре, к великому государю вхожие, что задумал Иван думу большую и что день освобождения, может быть, уже и недалёк.
Вышел поглядеть на постройку твердыни и боярин именитый, князь Семён Ряполовский, хоромы которого тут же, у Фроловских ворот, стояли. В дорогом кафтане, в шапке горлатной — облака задевает, — степенно опираясь на посох, шёл князь вдоль строящихся стен, и свежий речной ветер играл его величественной, во всю грудь, русой бородой. Бороды были на Руси тогда в чести. Борода имела религиозный смысл, служа явным доказательством отчуждения от ненавистного бритого латинства. «Те, кто бороду бреет, — говорили отцы, — и усы рвут, те образу Божию поругаются», и они распорядились соответственно: «Аще кто браду бреет и преставится, тако не подобает над ним служити». И чтобы ещё больше произвести на легкомысленных впечатление, рассказывали они о некоем козле, которому шутники какие-то обрезали бороду и который, не стерпев «досады сицевы, самого себе убил до смерти, бия главу свою без милости к земли. Уразумеем, коль честно и любезно есть бородное украшение и бессловесну животину!» Князю Семёну не было надобности подражать отчаявшемуся козлу: борода его была красой и гордостью Москвы, как и славный род, и богачество его. И чёрный народ широко расступался перед боярином именитым и отвешивал ему низкие поклоны.
Не менее низко кланялись москвитяне и двум дьякам, которые тоже стенами растущими любовались: дьяку Бородатому, великому знатоку летописей, и дружку его, дьяку государеву Фёдору Курицыну. Переводчик апокрифического «Лаодикийского послания» с его стремлениями освободить «самовластную» человеческую душу от тех «заград», какие ставила ей вера, дьяк Фёдор был известен всей Москве как великий вольнодумец, что не мешало ему, однако, быть в большой чести у великого государя. Дальше, вызывая насмешки одних и жгучую зависть других, красовались несколько московских «блудных юношей». Поверх исподнего, до колен, платья на плечах их была накинута «мятель», по-старинному — корзно, синяя, красная, зелёная, багряная, золотистая. Подол исподнею платья был обшит золотой каймой, а на рукавах были золотые поручи. Атласный откидной воротник был большею частью золотистый. На груди сияли золотые петлицы. Пояса украшены были золотыми и серебряными бляхами, бисером, дорогими каменьями. Мятель была из дорогого аксамита, расшитая шелками многоцветными. На голове красовалась шапочка из цветного бархата с собольей опушкой. А сапоги, сапоги!.. Шли они, «повесимши космы», — старый обычай брить голову выводился, — истасканные, нарумяненные, с намазанными губами, с подведёнными ресницами и бровями. Отцы гремели обличениями против щапов сих[53], которые «велемудрствовали о красоте телесней, украшали ся паче жён, умывании различными и натираниями хитрыми, и ум которых плакал о ризах, ожерельях, о пугвицах, которыми засыпали они одёжу свою и шапку и даже сапоги, о намизании ока, о кивании главы, о уставлении перстов…» Даже в церкви Божией блудные юноши сии, которые, по мнению отцов, «соблазнительнее жён человекам бывают», вели себя непозволительно: «Егда срама ради внидеши в божественную церковь и не веси, почто пришёл еси, позевая, и протязаяся, и нога на ногу поставляешь, и бедру выставляеши и потрясаеши, и кривляешися, яко похабный…» Но священные вопли сии оставались бесплодными: щапы продолжали блистать. Да и немудрено, что они батюшек не слушались: тут же, в толпе кремлёвской, разгуливались эти самые батюшки в самых ярких рясах, упестрённые и в богато «измечтанных сапозех».
А вот целой семьёй идёт какой-то купец московский — все упитанные, все потные от одёжи тяжёлой, все довольные, что и им завидуют люди. Сынок глаз не сводит со щапов знатных, но о подражании им и думать не смеет: ох, крепок, ох, жесток батог у родителя! И не потерпит ндравный старик посрамления обычаев дедовских даже и в малом.
А вот точно крадётся всей Москве известный мних[54], сербин Пахомий Логофет, высохший старик с вострень-ким носиком, который всё к чему-то словно принюхивается, и хитрыми и подобострастными глазками. Своими писаниями духовными зарабатывал ловкий старец немало серебра, кун и соболей. Составлял он, главным образом, жития святых, но занимался и историей. Русскую историю ловкач начинал с разделения земли Ноем между его сыновьями. Далее следовал перечень властителей и царей, среди которых были названы Сеостр и Филикс, цари египетские Александр Македонский и Юлий Цезарь. У Цезаря был брат Август. Когда Цезарь был убит, Август был в Египте. Его облекли в одежду Сеостра, а на голову ему возложили митру Пора, царя индейского. Учинившись таким образом владыкой вселенной, Август стал распределять земли между своими братьями и родственниками. Одному из них, Прусу, он отдал земли по Висле — так и зовётся та земля Пруссией. Некий воевода новгородский Гостомысл перед смертью созвал новгородских «владельцев» и посоветовал им послать в Прусскую землю послов, чтобы пригласить к себе владельца оттуда. Послы нашли там некоего князя по имени Рюрика, суща от рода римска Августа-царя. Ну, а дальше всё пошло как по маслу. Как же можно было отказать в злате, серебре и соболях искусному историку?..
И шли, шли медлительно и важно вдоль строящихся стен кремлёвских бояре, купцы, иноземцы, на которых все с испугом таращили глаза; ремесленники, мужики подгородние, попы, мнихи чёрные, бабы останавливались и, как околдованные, не могли оторваться.
— A-а, и ты здесь, Вася? — проговорил князь Семён, завидев задумчиво стоявшего в стороне Василия Патрикеева. — Как дело-то подвигается! Ровно в сказке!
Он немножко побаивался этого беспокойного «мятежелюбца», но Патрикеев — всегда Патрикеев. А кроме того, оба принадлежали к старобоярской партии, которая хмуро смотрела на возвышение князей московских и на их крутое владение. В борьбе, которая велась за старые вольности боярства, именно такие мятежелюбцы и были особенно нужны. Великий князь, кроме того, весьма благоволил к молодому Патрикееву и часто, несмотря на его молодость, поручал ему ответственные дела — в особенности в сношениях с иноземцами.
— Да, и я поглядеть пришёл, зятюшка, — рассеянно отвечал князь Василий. — По кирпичику кладут, а дело делается.
Это сказал он больше для себя; он по кирпичику класть не умел: ему хотелось, чтобы всё ему нужное по щучьему велению делалось, как в сказке… А в последнее время был он сумрачен более обыкновенного. Дума о Стеше жгла и мучила его, как на дыбе, днём, а в особенности ночью. А постылая жена — глазоньки не глядели бы на фефёлу![55] — вздумала, чтобы привязать его к себе, прибегнуть к старому бабьему средству: она омыла водой всё свое тело и дала ему ту воду пить. За такие приворотные художества отцы налагали епитимью на год, но он, когда дурость эта открылась, бабе непутёвой сказал только: «Дура!» — и, хлопнув в сердцах дверью, ушёл вон из дому.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Книги похожие на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Отзывы читателей о книге "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1", комментарии и мнения людей о произведении.