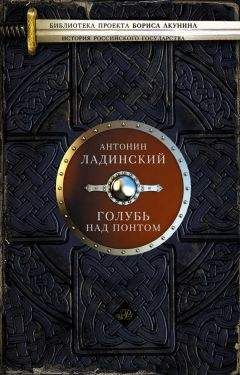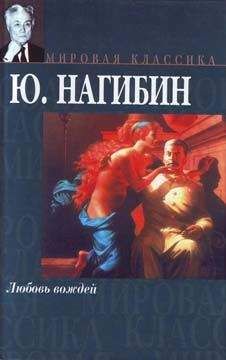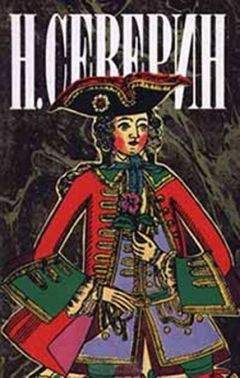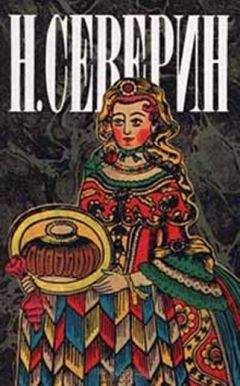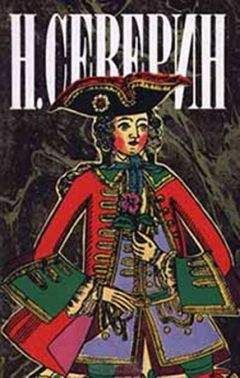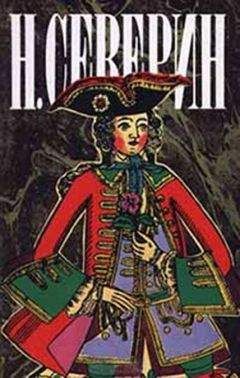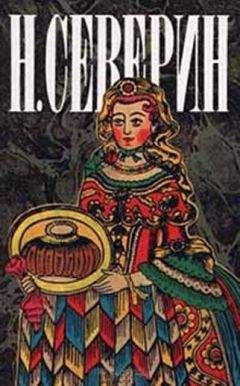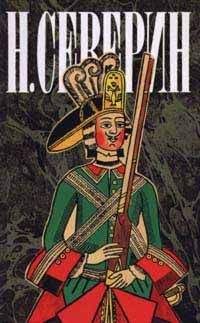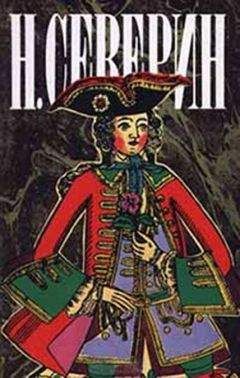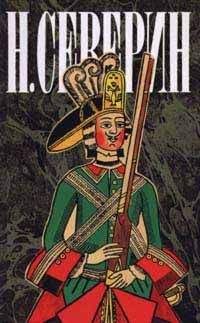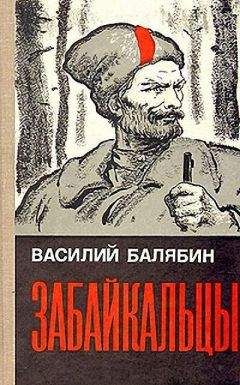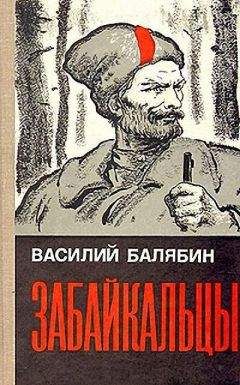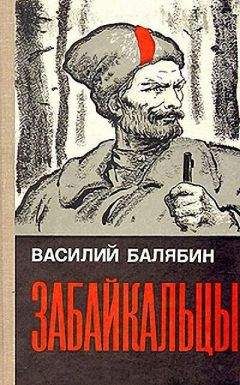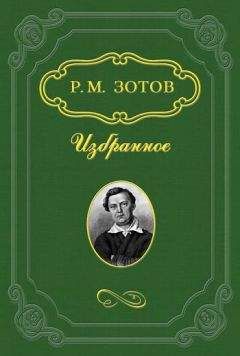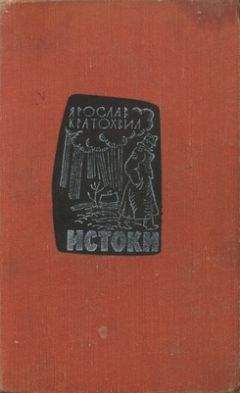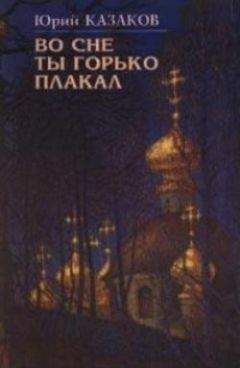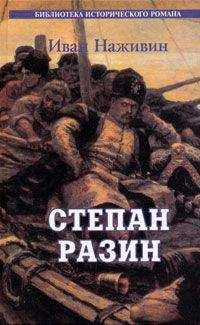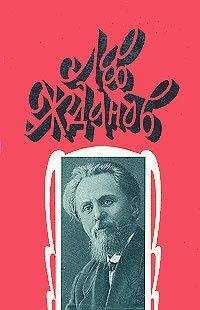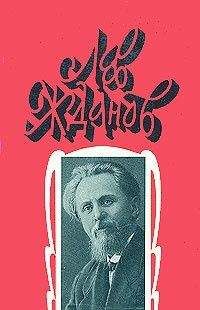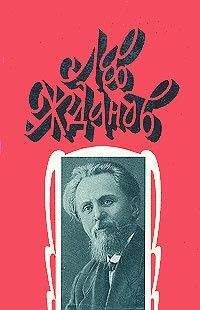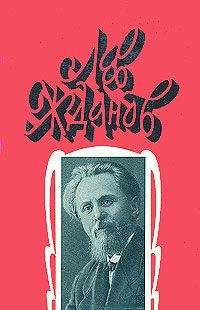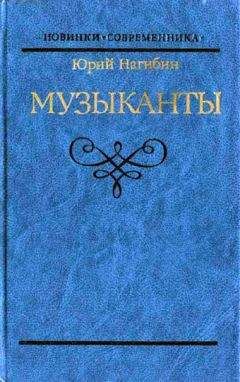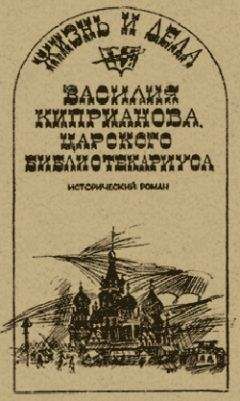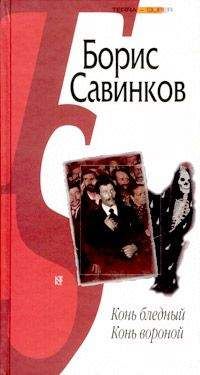Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
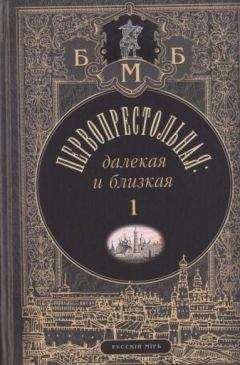
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Описание и краткое содержание "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать бесплатно онлайн.
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
— Помолиться пришли? — со светлой улыбкой спросил он грудным голосом. — Милости просим, милости просим. Обедня только что отошла — пойдёмте пока ко мне в келию, отдохнёте… А зовут меня Павлом, — улыбнулся он всем своим существом.
Павел был боярского рода. С молодых лет любил он подавать милостыню и часто, раздав не только все деньги, но и всю одежду, возвращался домой совсем раздетым. В начале XV века в уделе можайского князя, в селении Колоча, жил мужик Лука. Однажды он нашёл в глухом месте на дереве икону Богородицы. Лука взял её и принёс домой. Сразу же поднялась молва о чудесных исцелениях от явленной иконы. Народ повалил к Луке со всех сторон. И вошёл Лука в великую честь и славу. Он отправился с иконой в Можайск. Князь с боярами и все граждане вышли к ней навстречу. Отсюда Лука направился в Москву. Там икону встретил митрополит со кресты и со всем освящённым собором, князья, княгини, бояре и множество народа. Потом Лука стал ходить со своей иконой из города в город. Все его честили, как некоего апостола или пророка, и щедро оделяли всякими дарами. Таким путём собрал он себе великое богатство. Воротясь на родину, Лука построил монастырь для своей иконы, а для себя воздвиг светлые хоромы. Он стал жить по-княжески, окружил себя всякой роскошью и многочисленными слугами и отроками. Трапеза его изобиловала тучными брашнами и благовонными питиями. Плясуны и песенники взапуски увеселяли его. Начал он забавляться и охотою, выезжая с ястребами, соколами и кречетами, держал большую псарню и ручных медведей. Павел поступил было в этот монастырь послушником, но ему стало противно в этом вертепе, и он, наслышавшись о заволжских старцах, ушёл в северные леса и поселился неподалёку от Кириллова монастыря в дупле старой липы. Так прожил он три года молясь, воспевая псалмы и беседуя с птицами и зверями лесными: «Радуйся, течаше без преткновения и в вышних ум свой вперяя и сердце очищая от всех страстных мятеж». Впрочем, мятежей благодатная душа эта почти и не знала и сумрак их скоро рассеивался без следа: так весной только на короткое время набежит на солнце лёгкая тучка, а там снова всё загорится и запоёт. В противоположность другим белозерцам Павел беседу грехом не считал: «И молча можно грешить, — говорил он, — и в беседе можно делать дело Божие».
— Ну, вот мы и пришли, — сказал он, останавливаясь у входа крошечной избёнки с подслеповатым оконцем. — Ничего, входите: как-нибудь уж поместимся.
Дупло своё он оставил: очень уж посетители там донимали его. Здесь он обращал на себя меньше внимания. Но всё же и тут было слишком суетно, и он уже обдумывал, куда бы ему податься подальше в леса… Жалко было только покинуть старца Нила, к которому он был очень привязан.
В чёрной от дыма и тёмной избенке были только нары из тонких жёрдочек, непыратый столик да столец о трёх ножках. Отец Григорий тихонько толкнул Тучина локтем: под нарами валялась какая-то пёстрая икона. В переднем же углу висел только лик Христов один большеокий. Земляной, сырой пол был весь усеян стружками: все иноки занимались рукоделием — кто мрежи плёл, кто иконы писал, кто посуду деревянную делал. И работали тут по совести: да не токмо от трудов своих хлеб снедают, но да и о нищих любовь показуют.
Павел усадил своих гостей.
— Не проголодались ли, рабы Божии? — осиял он их своими дивными глазами. — А то можно сухариков расстараться.
— Нет, нет, — отозвались гости. — Мы ещё на том берегу закусили. Ничего, не утруждайся.
— А ты вот лучше скажи нам, как это ты икону-то так под одр[50] свой забросил, — сказал отец Григорий.
— Да какая же это икона? — улыбнулся Павел. — Икона вот, — указал он на лик Христов. — А это так только, одно пустое воображение мысли.
Он достал икону из-под нар и сдул с неё пыль. На ней было изображено что-то вроде Страшного суда. Внизу в красном огне даже чёрные черти с рогами виднелись.
— Какая же это икона? — повторил Павел. — Икона — это радость, свет невечерний, в небеса оконце светлое. Вот будете, может, у старца Нила в скиту, так поглядите там на икону «Прекрасная Заря, держащая Пресветлую Луну» — вот это икона!.. Иконы писать тоже понимать надо, и не всякий за это дело браться должен. Иконописцу подобает чистым быти, житием духовным жити и благими нравы, смирением же и кротостию украшатися и во всём благое творити: есть у тебя свет в душе, будет он и в иконе твоей, а нету его в душе, не будет и в иконе… А то вон в Ферапонтове монастыре видел я тоже икону «Бурю внутрь имеяй». Изображены на ней Богородица и старый Иосиф, которого искушает диавол, указуя ему на кривую суковатую палку: как от неё-де не может быть плода, так и от тебя, старика. И Иосиф задумался, мучится. Совсем это на иконе ни к чему… Нет, — поправился он, — может, и оно свой смысл имеет, ну только не люблю я этого. Я люблю радости излучение и красы небесной. Горе тому, кто возлюбил мрак!..
И необыкновенные глаза его, и слова милые были полны несказанной теплоты. Отец Григорий покосился на Тучина: ну что, недаром проходили? На лицах Тучина и Терентия была теплота умиления.
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — раздалось за дверью.
— Аминь. Ты что, брат Данила?
Пришедший инок был во всём прямой противоположностью Павлу: румяный крепыш, с буйными тёмными волосами в кольцах, с бойкими глазами, развертистый, он производил скорее впечатление торгового человека, княжого отрока, чего угодно, но только не инока.
— Не дашь ли мне долотца, отец Павел? — сказал он. — Я своё, грешным делом, сломал. А хотца мне мисы, что поделал, торговым скорее сдать.
— Так что. Возьми вон на полке.
— Спасибо. Я скоро назад принесу.
— И не скоро, так ладно, — улыбнулся Павел.
Данила взял долото и с любопытством оглядел своими бойкими глазами посетителей.
— Ну, счастливо оставаться, — тряхнул он своими тёмными кудрями и форсисто пошёл тропкой в лес.
— Москвич? — спросил отец Григорий с улыбкой.
— Рязанец, — улыбнулся и Павел. — Они выходкой-то и москвитянам не уступят.
— Что говорить: и наши народ оборотистый, — усмехнулся и Терентий.
— А в Писании как начитан, удивлению подобно, — сказал Павел. — И до того обык он от Писания говорить, что попросту редко что и скажет. За обхождение его Рязанцем зовут, а другие за язык цветистый Агнечем Ходилом прозвали.
— Почему же Агнечем Ходилом? — спросил Тучин.
— А потому, что ты, к примеру, скажешь «баранья нога», а он обязательно «агнече ходило» скажет. Ничего, добрый паренёк, усердный, заботник. Только думаю, не высидит он, здесь долго: больно в нём силы этой мирской много, а для неё у нас тесновато.
Помолчали.
— А что, старца Нила повидать нам можно будет? — спросил Тучин.
— Вот уж не знаю, — отвечал Павел. — Теперь к нему и пройти очень благо[51]: он середь болот, на берегу Сорки живёт, со своим учеником Иннокентием. Да и не любит наш старец многоглаголания: лутче, бает, с какой высоты пасть, чем от своего языка. Господь его знает, может, оно и так: вот сказал я вам про Агнече Ходило-то, а теперь совесть и зазрит — может, лутче бы того не говорить.
Он вздохнул тихонько.
— Иннокентия-то я раньше знавал, — сказал Тучин. — Он из роду бояр Охлебининых ведь. Может, по старой дружбе он и захочет со мной повидаться.
— Да я поговорю и ему, и старцу, — поторопился прибавить Павел. — У Нила сердце доброе. Раз вы столько прошли, как же можно отказать вам? Ничего, я поговорю… Вот к вечеру, Бог даст, подморозит, я и провожу вас в скит. Ничего, как-нибудь с Божией помощью уладим. Я всегда жалею, когда человек за добром пришёл, а пред ним дверь закрывают. Конечно, много так, зря, из любопытства ходят, то другое дело, а тем, кто ищет правды Божией, как заградить им путь? Благословен, грядый во имя Господне, сказано. Да что мы, гости милые, в избе-то дябим? — вдруг спохватился он. — Пойдёмте-ка над рекой лучше посидим, полюбуемся, порадуемся.
Они проходили уже мимо церковки, когда из лесу на прекрасном, до ушей мокром коне выехал вдруг молодой боярин. За ним спели двое вершников, а сбоку поспешал, тоже весь мокрый, весь в болотной тине, монах с сивой бородой. Красивое лицо боярина было угрюмо, и тёмным огнём горели красивые, слегка косящие глаза.
— Ну, спасибо тебе, отче, — останавливая коня, проговорил он. — Замаял я тебя.
— Не беда, княже, — отвечал монах, вытирая платом грубоватое, умное крестьянское лицо. — Для Бога потрудиться не грех. Ты уж нас, простецов, прости, что не могли принять тебя как подобает.
— Я не пировать к вам, отче, приехал, — сказал всадник. — У вас ищут того, чего у нас на Москве уж не водится.
Умные глазки монаха осторожно блеснули.
— Что это ты баешь, княже? — усмехнулся он. — Там у вас сам митрополит всея Руси, и епископы, и вся сила церковная.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Книги похожие на "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Дроздов - Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1"
Отзывы читателей о книге "Первопрестольная: далёкая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1", комментарии и мнения людей о произведении.