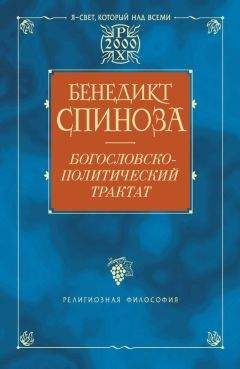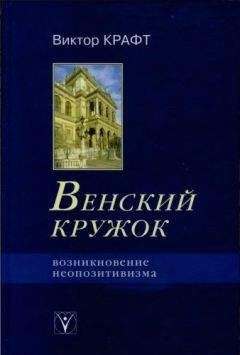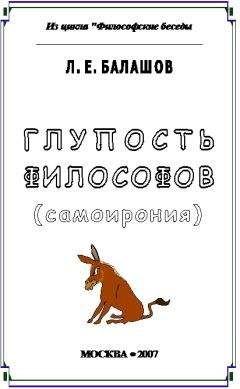Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воображаемые сообщества"
Описание и краткое содержание "Воображаемые сообщества" читать бесплатно онлайн.
В очередную книгу большой серии «Публикации ЦФС» (малая серия «CONDITIO HUMANA») мы включили широко известное исследование Б. Андерсона, посвященное распространению национализма в современном мире. Своеобразие трактовки автором ключевых понятий «нации» и «национализма» заключается в глубоком социально-антропологическом подходе к их анализу. При этом автор учитывает социально-политический и исторический контекст формирования феномена национализма.
Книга предназначена для социологов, политологов, социальных психологов, философов и всех изучающих эти дисциплины.
Решение, в конце концов ставшее пригодным как для Нового, так и для Старого Света, было найдено в Истории — или, скорее, Истории, особым образом прописанной. Мы уже заметили, с какой скоростью вслед за объявлением Первого Года последовало учреждение кафедр истории. Как отмечает Хейден Уайт, не менее поразительно, что все пять ведущих гениев европейской историографии родились в четверть столетия, последовавшую за разрывом времени Национальным Конвентом: Ранке — в 1795, Мишле — в 1798, Токвиль — в 1805, а Маркс и Буркхардт — в 1818[449]. И, наверное, естественно, что из этих пяти именно Мишле, назначивший сам себя историком Революции, дает нам самый яркий пример рождения национального воображения, ибо он первый стал сознательно писать от лица умерших[450]. Вот характерная выдержка из его труда:
«Oui, chaque mort laisse un petit bien, sa mémoire, et demande qu'on la soigne. Pour celui qui n'a pas d'amis, il faut que le magistrat y supplée. Car la loi, la justice, est plus sûre que toutes nos tendresses oublieuses, nos larmes si vite séchées. Cette magistrature, c'est l'Histoire. Et les morts sont, pour dire comme le Droit romain, ces miserabiles personae dont le magistrat doit se préoccuper. Jamais dans ma carrière je n'ai pas perdu de vue ce devoir de l'historien. J'ai donné a beaucoup de morts trop oubliés l'assistance dont moi-même j'aurai besoin. Je les ai exhumés pour une seconde vie… Ils vivent maintenant avec nous qui nous sentons leurs parents, leurs amis. Ainsi se fait une famille, une cité commune entre les vivants et les morts»[451].
Здесь и в других местах Мишле ясно дал понять, что те, кого он выводит из могил, — это никоим образом не случайное собрание забытых, безымянных умерших. Это те, чьи жертвы, принесенные на протяжении Истории, сделали возможным разрыв 1789 г. и осознанное появление французской нации, пусть даже сами эти жертвы и не воспринимались как таковые теми, кто их принес. В 1842 г. он написал об этих умерших: «Il leur faut un Oedipe qui leur explique leur propre énigme dont ils n'ont pas eu le sens, qui leur ap-prenne ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes, qu'ils n'ont pas compris» [ «Им нужен Эдип, который бы разъяснил им их действительную тайну, смысла которой они сами не разумели, который бы поведал им, что подразумевали на самом деле их речи и их поступки, коих они сами не понимали»][452].
Эта формулировка, вероятно, беспрецедентна. Мишле не только покусился на право говорить от имени колоссального числа анонимных умерших, но и авторитетно заявил, что может сказать, о чем они «на самом деле» думали и чего они «на самом деле» хотели, поскольку сами они этого «не понимали». Отныне молчание умерших перестало быть помехой для эксгумации их глубочайших желаний.
В русле этого умонастроения все больше и больше националистов «второго поколения» в обеих Америках, да и повсюду, учились говорить «от лица» умерших, установление языковой связи с которыми было невозможным или нежелательным. Это «чревовещание наоборот» помогло расчистить дорогу сознательному indigenismo, особенно в Южных Америках. Пограничный случай: мексиканцы, говорящие по-испански «от лица» доколумбовых «индейских» цивилизаций, языков которых они не понимают[453]. Насколько революционна была такая эксгумация, становится предельно ясно при сопоставлении ее с формулировкой Фермина де Варгаса, приведенной в главе 2. Ибо там, где Фермин все еще бодро рассуждал об «истреблении» живых индейцев, многие из его политических внуков стали одержимы «воспоминаниями» о них и даже «говорением от их лица» — возможно, именно потому, что к тому времени те зачастую были уже истреблены.
Удостоверяющее подтверждение братоубийства
Удивительно, что во «второпоколенческих» формулировках Мишле в центре внимания всегда оказывается эксгумация людей и событий, над которыми нависла угроза забвения[454]. Он не видит нужды думать о «забывании». Однако когда в 1882 г. — спустя более века после принятия Декларации независимости в Филадельфии и спустя восемь лет после смерти самого Мишле — Ренан опубликовал Qu'est-ce qu'une nation? его главной заботой стала именно необходимость забвения. Давайте еще раз посмотрим на формулировку, которая уже приводилась нами ранее в главе 1:
«Or l'essence d'un nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses… Tout citoyen français doit avoit oublié la Saint-Barthélémy, les massacres du Midi au XIIIе siècle» [ «A сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее составляющие, имеют между собой много общего и много разъединяющего их в то же время забыли… Всякий французский гражданин должно быть позабыл ночь Св. Варфоломея, резни на юге в XIII ст.»][455].
На первый взгляд, эти два предложения могут показаться прямолинейными[456]. Тем не менее, при малейшем размышлении обнаруживается, насколько они на самом деле необычны. Замечаешь, например, что Ренан не видел никаких причин объяснять своим читателям, что означают выражения «la Saint-Barthélémy» или «les massacres du Midi au XIII-е siècle». A кто еще, как не «французы», сразу, так сказать, сообразил бы, что за выражением «la Saint-Barthélémy» скрывается жестокий антигугенотский погром, устроенный 24 августа 1572 г. монархом Карлом IX из династии Валуа и его матерью-флорентийкой, а за «les massacres du Midi au XlII-e siècle» — истребление альбигойцев на обширных просторах от Пиренеев до Южных Альп, спровоцированное Иннокентием III, одним из гнуснейших виновников в когорте преступных римских пап? Точно так же Ренан не видел ничего необычного в том, чтобы допустить в умах своих читателей наличие таких «воспоминаний», хотя сами эти события произошли соответственно 300 и 600 лет назад. Что еще поражает, так это категорический синтаксис выражения doit avoir oublié (не doit oublier) — «обязан уже позабыть», — навевающий своим угрожающим тоном налоговых кодексов и законов о воинской повинности мысли о том, что «уже позабыть» древние трагедии является ныне первейшим гражданским долгом. Таким образом, читателям Ренана предлагалось «уже позабыть» то, что они, исходя из слов самого Ренана, естественным образом помнили!
Как объяснить этот парадокс? Можно начать с наблюдения, что французское существительное единственного числа «la Saint-Barthélémy» заключает в единое целое убийц и убитых — т. е. католиков и протестантов, которые играли общую локальную роль в широкомасштабной нечестивой Священной войне, охватившей в XVI веке всю Центральную и Северную Европу, и уж точно не мыслили себя уютно собранными в категорию «французы». Аналогичным образом, выражение «массовые убийства на Юге в XIII столетии» оставляет жертв и убийц не названными, пряча их за чистой французскостью «Юга». Читателям Ренана не нужно напоминать, что большинство альбигойцев, погибших в этих расправах, говорили на провансальском и каталанском языках, а их убийцы были родом из самых разных уголков Западной Европы. Следствием этих образных оборотов речи становится изображение отдельных эпизодов масштабных религиозных конфликтов средневековой и раннесовременной Европы как удостоверяюще братоубийственных войн между — кем же еще? — конечно, братьями-французами. Мы можем быть уверены, что, предоставленные самим себе, французские современники Ренана в подавляющем большинстве, скорее всего, так никогда бы и не услышали ни о «la Saint-Barthélémy», ни о «les massacres du Midi». A следовательно, здесь мы имеем дело с систематической историографической кампанией, развернутой государством главным образом через государственную систему образования, задачей которой было «напоминание» каждой молодой француженке и каждому молодому французу о серии древних массовых убийств, которые запечатлены теперь в сознаниях как «родовая история». Вынуждение «уже забыть» те трагедии, в непрестанном «напоминании» о которых человек нуждается, оказывается типичным механизмом позднейшего конструирования национальных генеалогий. (Поучительно, что Ренан не говорит о том, что французский гражданин обязан «уже забыть» Парижскую коммуну. В 1882 г. память о ней была все еще реальной, а не мифической, причем достаточно болезненной, чтобы затруднить прочтение ее как «удостоверяющего братоубийства».)
Не нужно и говорить, что во всем этом не было и нет ничего сугубо французского. Огромная педагогическая индустрия ведет неустанную работу, обязывая молодых американцев помнить/забывать военные действия 1861–1865 гг. как великую «гражданскую» войну между «братьями», а не между двумя суверенными нациями-государствами, какими они короткое время были. (Тем не менее, мы можем быть уверены, что если бы вдруг Конфедерации удалось отстоять свою независимость, то эту «гражданскую войну» заменило бы в памяти что-нибудь совершенно небратское.) Учебники английской истории предлагают вниманию сбивающее с толку зрелище великого Отца-основателя, которого каждого школьника учат называть Вильгельмом Завоевателем. Тому же ребенку не сообщают, что Вильгельм не говорил по-английски и, по правде говоря, вообще не мог на нем говорить, поскольку английского языка в то время еще не было; не говорят ребенку и о том, «Завоевателем» чего он был. Ибо единственно мыслимым современным ответом было бы: «Завоевателем англичан», — что превратило бы старого норманнского хищника во всего лишь более удачливого предшественника Наполеона и Гитлера. Следовательно, определение «Завоеватель» функционирует в качестве такого же эллипса, что и «la Saint-Barthélémy», напоминая о чем-то таком, что немедленно необходимо забыть. Таким образом, норманн Вильгельм и саксонец Гарольд встречаются в битве при Гастингсе если уж не как танцевальные партнеры, то, по крайней мере, как братья.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воображаемые сообщества"
Книги похожие на "Воображаемые сообщества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества"
Отзывы читателей о книге "Воображаемые сообщества", комментарии и мнения людей о произведении.