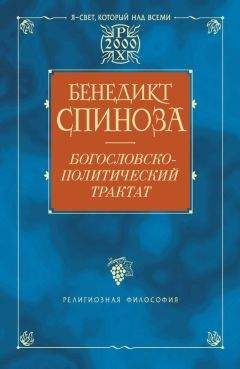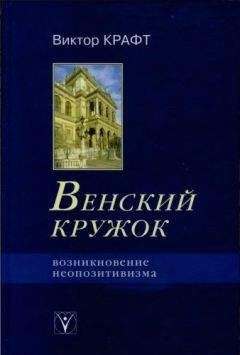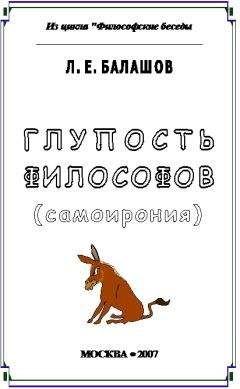Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воображаемые сообщества"
Описание и краткое содержание "Воображаемые сообщества" читать бесплатно онлайн.
В очередную книгу большой серии «Публикации ЦФС» (малая серия «CONDITIO HUMANA») мы включили широко известное исследование Б. Андерсона, посвященное распространению национализма в современном мире. Своеобразие трактовки автором ключевых понятий «нации» и «национализма» заключается в глубоком социально-антропологическом подходе к их анализу. При этом автор учитывает социально-политический и исторический контекст формирования феномена национализма.
Книга предназначена для социологов, политологов, социальных психологов, философов и всех изучающих эти дисциплины.
Хотя такой тип археологии, достигший зрелости в эпоху механического воспроизведения, был в основе своей политическим, он был политическим на столь глубоком уровне, что почти никто, включая персонал колониального государства (который к 30-м годам нашего века почти везде в Юго-Восточной Азии на 90 процентов был туземным), этого даже не осознал. Он превратился в нечто совершенно заурядное и повседневное. Но именно в бесконечной каждодневной воспроизводимости этих регалий проявляло себя реальное могущество государства.
Вероятно, нет ничего особенно удивительного в том, что обретшие независимость государства, многое позаимствовав у своих колониальных предшественников, унаследовали и эту форму политической музеизации. Например, 9 ноября 1968 г. в рамках торжеств, посвященных 15-й годовщине независимости Камбоджи, Нородом Сианук выставил в национальном спортивном комплексе в Пномпене большую копию ангкорского храма Байон из дерева и папье-маше[422]. Копия была исключительно грубой и неточной, но благодаря логотипизации, произошедшей в колониальную эпоху, послужила своей цели: мгновенной узнаваемости. «Ах, наш Байон!» — но уже без какого-либо упоминания о его французских колониальных реставраторах. Реконструированный французами Ангкор-Ват, опять-таки в форме «картинки-загадки», стал, как уже говорилось в главе 9, основным символом в череде сменявших друг друга флагов роялистского режима Сианука, милитаристского режима Лон Нола и якобинского режима Пол Пота.
Удивительнее выглядят свидетельства такого наследования на более массовом уровне. Ярким примером служит серия живописных полотен с изображением эпизодов национальной истории, заказанная в 50-е годы министерством образования Индонезии. Эти картины должны были быть запущены в массовое производство и разосланы по всем начальным школам; повсюду на стенах школьных классов юные индонезийцы должны были видеть визуальные репрезентации прошлого своей страны. Большинство задних планов было выполнено в предсказуемом сентиментально-натуралистическом стиле коммерческого искусства начала XX в., человеческие же фигуры были взяты либо с музейных диорам колониальной эпохи, либо из псевдоисторических представлений народного театра ваянг оранг. Наибольший интерес из всей серии представляла, однако, картина, предлагавшая детям репрезентацию Боробудура. Этот колоссальный памятник с его 504 образами Будды, 1460 сюжетными и 1212 декоративными каменными плитами есть поистине фантастическая сокровищница древней яванской скульптуры. Однако, досточтимый художник изображает это чудо в период его величия (IX в.) поучительно своевольно. Боробудур предстает полностью выкрашенным в белый цвет; в нем нет и следа какой бы то ни было скульптуры. Он окружен ухоженными лужайками и тенистыми аллеями — и нигде ни единой души[423]. Кто-то, возможно, сказал бы, что эта пустынность отражает неловкость современного мусульманского художника перед лицом древней буддийской реальности. Однако я предполагаю, что на самом деле мы видим здесь прямое наследие колониальной археологии: Боробудур как государственную регалию и как логотип «ну, конечно же, это он». Боробудур, еще более могущественный в качестве знака национальной идентичности в силу осознания каждым человеком местоположения этого Боробудура в бесконечном ряду идентичных Боробудуров.
Таким образом, в переписи, карте и музее, тесно взаимно связанных друг с другом, ярко проявляется особый стиль представления позднеколониальным государством своих владений. «Основой» этого стиля была тотализирующая классификационная разметка, которую можно было с бесконечной гибкостью применять ко всему, что попадало под реальный или предполагаемый контроль государства: к народам, регионам, религиям, языкам, продуктам, памятникам и т. д. Следствием этой разметки была способность всегда про все что угодно сказать, что вот это, именно это, а не то, и что место этому именно здесь, а не там. Все было разграниченным, определенным и, следовательно, в принципе исчислимым. (В смешные классификационные и подклассификационные учетные ячейки, озаглавленные «другое», упрятывались с помощью восхитительной бюрократической trompe l'oeil[424] все аномалии, присутствующие в реальной жизни.) «Тканью» же, которая накладывалась на указанную «основу», было то, что можно назвать сериализацией: допущение, что мир состоит из воспроизводимых множественных чисел. Частное всегда выступало как временный представитель ряда, и обращаться с ним следовало соответственно. Поэтому колониальное государство вообразило китайский ряд раньше, чем китайца, а националистический ряд — еще до появления националистов.
Еще никто не нашел для этой структуры разума лучшую метафору, чем великий индонезийский романист Прамудья Ананта Тур, назвавший заключительный том своей тетралогии о колониальном периоде «Rumah Kaca» — «Стеклянный дом». Это не менее могущественный образ тотальной просматриваемости, чем «Паноптикум» Бентама. Ведь дело не просто в том, что колониальное государство стремилось создать под своим контролем идеально просматриваемый человеческий ландшафт; эта «просматриваемость» требовала, чтобы у каждого человека и каждой вещи был (так сказать) серийный номер[425]. Этот стиль воображения возник не из воздуха. Он был продуктом технологических достижений навигации, астрономии, часового дела, топографии, фотографии и печати, не говоря уж о глубокой движущей силе капитализма.
Итак, карта и перепись сформировали грамматику, которая должна была при надлежащих условиях сделать возможными «Бирму» и «бирманцев», «Индонезию» и «индонезийцев». Однако конкретные воплощения этих возможностей, которые и сегодня, спустя много лет после исчезновения колониального государства, живут полноценной жизнью, были очень многим обязаны тому, как представляло себе колониальное государство историю и власть. В доколониальной Юго-Восточной Азии археология была немыслимым занятием; в неколонизированном Сиаме она была воспринята с большим опозданием и с оглядкой на созданный колониальным государством образец. Археология создавала серийный ряд «древние памятники», разбиваемый на сегменты с помощью классификационных географическо-демографических ячеек «Нидерландская Индия» и «Британская Бирма». Каждая руина, будучи воспринята в рамках этого профанного ряда, становилась доступной для обследования и бесконечного копирования. В то время как археологическая служба колониального государства создавала техническую возможность монтировать этот ряд в картографической и фотографической форме, само государство могло рассматривать эти серии, вплоть до исторических времен, как альбомы с изображениями своих предков. Данный конкретный Боробудур, или конкретный Паган никогда не представляли особого интереса для государства; с ними его связывала только археология. Воспроизводимые серийные ряды, однако, создавали ту историческую глубину поля, которую с легкостью унаследовали постколониальные правопреемники колониальных государств. Конечным логическим результатом был логотип (будь то «Пагана» или «Филиппин» — почти без разницы), который самой своей незаполненностью, бесконтекстностью, визуальной запоминаемостью и бесконечной воспроизводимостью в любом направлении соединил перепись и карту в едином нерасторжимом объятии.
11. Память и забвение
Пространство новое и старое
Нью-Йорк, Нуэво-Леон, Нувель Орлеан, Нова-Лижбоа, Новый Амстердам. Уже в XVI в. у европейцев стала складываться странная привычка использовать для именования отдаленных мест — сначала в Америках и в Африке, а затем в Азии, Австралии и Океании — новые версии «старых» (тем самым) топонимов, обозначавших их родные места. Более того, они сохраняли эту традицию даже тогда, когда эти места переходили в руки других имперских хозяев. Так, Nouvelle Orléans без лишнего шума превратился в New Orlean [Новый Орлеан], a Nieuw Zeeland — в New Zealand [Новую Зеландию].
Вообще говоря, в самом именовании политических или религиозных мест как «новых» не было ничего особенно нового. В Юго-Восточной Азии, например, можно найти вполне древние города, названия которых тоже включают слово, обозначающее новизну: Чиангмай (Новый Город), Кота-Бару (Новый Город), Пеканбару (Новый Рынок). Но в этих названиях слово «новый» неизменно имеет значение «преемника», или «наследника» чего-то исчезнувшего. «Новое» и «старое» соединяются в них диахронически, и первое всегда как будто испрашивает двусмысленного благословения у умерших. Что поражает в американских именованиях XVI–XVIII вв., так это то, что «новое» и «старое» понимались в них синхронически, как сосуществующие в гомогенном, пустом времени. Бискайя соседствует здесь с Нуэва-Бискайей, а Нью-Лондон — с Лондоном: это скорее идиома братского соревнования, чем наследования.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воображаемые сообщества"
Книги похожие на "Воображаемые сообщества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Бенедикт Андерсон - Воображаемые сообщества"
Отзывы читателей о книге "Воображаемые сообщества", комментарии и мнения людей о произведении.