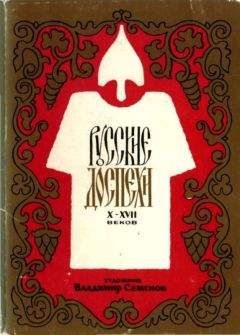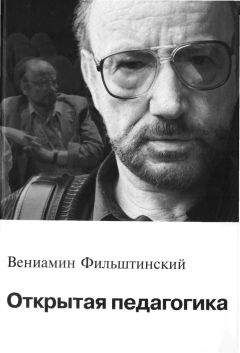Эраст Кузнецов - Пиросмани

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пиросмани"
Описание и краткое содержание "Пиросмани" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена великому грузинскому художнику Н. Пиросманашвили, пользующемуся сегодня мировой известностью. Автор воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества мастера, раскрывает смысл и своеобразие его самобытного искусства.
По сравнению с первым изданием нынешнее существенно расширено и дополнено новыми материалами. В книге — тоновые и цветные воспроизведения работ художника, а также документальный изобразительный материал, дающий представление о его облике и о той среде, в которой он жил и работал.
2-е изд., исправленное и дополненное
Пейзажи Пиросманашвили — это картины «всей Грузии».
Конечно, надо уточнить, что понятие «всей Грузии» у него вполне определенно. Реальный грузинский пейзаж разнообразен; художник черпал из него выборочно. Его не трогали высокогорные районы Сванети, Хевсурети, Тушети. Он почти не изображал черноморское побережье (исключение — картины «Батуми» и «Охота и вид на Черное море») — его явно не вдохновляли пряные субтропические красоты. Сравнительно редко обращался он к зеленеющей рощами и лесами Западной Грузии. Грузия Пиросманашвили — это Восточная Грузия — Картли и Кахети, чьи особенности точнее всего выражали его ощущение родной земли. Их пейзаж имеет определенные различия: облик Картли суше, скупее; облик Кахети — богаче, живописнее, щедрее. Но характер их близок.
Это можно назвать ограниченностью и объяснить по-разному, и все объяснения, пожалуй, будут справедливы.
Можно говорить и о буквальной крестьянской ограниченности Пиросманашвили, с трудом приспосабливающегося к тому, что лежит за пределами родного, привычного, о его приверженности к исконному.
Однако можно говорить и о своеобразном отражении здесь исторически сложившихся, так сказать, «восточно-центристских» представлений, по которым именно Восточная Грузия была оплотом грузинской государственности, языка, национальной целостности, национального характера, наконец, центром распространения (из Тбилиси и Мцхета) христианства; название центральной части страны, Картли, недаром стало основой для грузинского самоназвания всей Грузии — Сакартвело и всего грузинского — картули.
Наконец, с определенными основаниями можно объяснить приверженность к восточногрузинскому ландшафту и эстетически. В свое время Андрей Белый очень остро передал ощущение от Картли: «Ландшафт — не аджарский; тот — буен; а этот — скупой и сухой: благородный. Где роскошь лесов, бамбуков и лиан? Всюду — сушь очертаний, безлесица, но до чего проработано!.. Живя в Аджарии, нам вспоминалися строки из Фета:
На суку извилистом и чудном
Райская качается Жар-птица.
Но в Грузии Фета не вспомнишь. Кого вспомнишь? Пушкина… Грузия для пушкиниста. Чарующа эта часть Грузии: тихой своей простотой, простота же — предел изощрения; здесь грубые вкусы, надувшись, пройдут, и отметят: „Природа бедна под Тифлисом“».[93] Андрей Белый уловил главную черту грузинского пейзажа: благородство («И вся Грузия — песня: мотив благороден; слова строги и очень грустны»[94]). И Пушкин был им помянут не случайно.
Грузинский пейзаж возвышенно прост. Это долины рек и холмы — «холмы Грузии…» Не горы — холодные, пугающие ледники и скалы, царящие над миром, а холмы — то поднимающиеся среди долины, то собирающиеся стаями, то идущие грядой, то громоздящиеся к горным хребтам, как ступени в жилище великанов-дэвов; то полого сползающие, то круто вздымающиеся одним боком; покрытые благородными — дубовыми или буковыми — лесами или виноградниками, или вовсе голые, поросшие пахучей травой, зеленой в апреле и побуревшей уже в июне; холмы теплые, согретые солнцем, изборожденные глубокими складками, там, где привычно стекают дождевые потоки, с торчащими вдруг из-под почвы камнями (как мясо, где шкура стерлась), — живые, хранящие в себе тепло и плодородие земли, истоптанные стадами овец, исчерченные тонкими тропками, с крепостями на вершинах, этими неизменными спутниками грузинского пейзажа, этими метками истории длинной и трудной. «Великим трудом отличались наши предки. Поглядите вокруг — нет в нашей стране ни одного холма, на котором не виднелись бы храм, крепостная башня или замок. Много пота пролили наши предки».[95]
В скупом и ясном пейзаже Восточной Грузии более всего ответа внутреннему самоощущению грузинского народа, потому что он был естественной средой, в которой формировался этот народ. Именно такой пейзаж возникает на картинах Пиросманашвили. Художник вновь творил этот мир, эту чудную, одновременно и реальную, знакомую, исхоженную, и нереальную, страну-мечту, прекрасней которой быть не может. Творил, сопрягая то, что сильней всего удерживалось в его памяти как самое главное, самое важное, то, с чем его народ связывал свои представления о родной земле. Его пейзажи создают такое же ощущение Грузии, как пейзажи Саврасова или Нестерова — России. Это родина, Мать-Грузия.
Именно такой и предстает перед нами Грузия на «деревенских» картинах Пиросманашвили, образующих совершенно самостоятельную часть в его наследии.
Жизнь сельская, деревенская волновала и самого Пиросманашвили, и его зрителей. Ведь массу посетителей духанов и лавок составляли недавние крестьяне, изгнанные в город нуждой: надеждой разбогатеть, или хотя бы стать на ноги, или хотя бы заработать на жизнь. Став городскими людьми по месту жительства и по роду занятий, они сохраняли мысль о деревне и искренне надеялись вернуться на землю отцов и возобновить хозяйство (что удавалось немногим). Картины деревенской жизни питали их томление по родине, по хорошей жизни.
Конечно, разной была мечта о деревне у торговцев, разносчиков, ремесленников — и у Пиросманашвили, никогда не собиравшегося и даже боявшегося вернуться на родину. Для них деревня была реальность, для него — прекрасная ностальгическая мечта. Но на любви к деревне они сходились, и зрители разделяли ту увлеченность, с которой художник изображал деревенскую жизнь.
«Деревенские» картины несравненно разнообразнее и подвижнее «городских». Едва ли не каждая из них — сценка, едва ли не в каждой что-то происходит. Впрочем, не надо обманываться: художник и здесь упрямо не желает заинтересовать зрителя увлекательным сюжетом. Вздумав изобразить (или повинуясь чьему-то заказу) похищение разбойниками лошади, он отказывается от всех соблазнительных возможностей развлечь нас и избирает самый невыигрышный эпизод: пишет разбойника едущим верхом и ведущим украденную лошадь в поводу. Острый момент либо миновал (похищение), либо еще не наступил (погоня, схватка). Изображенное действие наиболее длительно и наименее драматично. В сущности, о смысле происходящего мы можем узнать только из надписи «Рзбоникъ украл лошдь»; интригующий сюжет ушел, осталось только поэтическое настроение: луна, выглядывающая между облаков, одинокий путник, неторопливо едущий в ночи.
А чаще всего сюжеты «деревенских» картин совсем просты.
Это поистине деревенские будни: «Пастух с отарой», «На гумне» (в нескольких вариантах), «Женщина доит корову» (в двух вариантах). В них часто появляются дети, и трудно рассудить, чего в этом обнаруживается больше — столь распространенной в Грузии любви к детям или собственной глубоко интимной потребности художника вновь пережить лучшую, безмятежную пору своего существования. «Мальчик несет обед», «Крестьянка с детьми идет за водой» (у этой прославленной картины тоже есть еще один вариант), «Крестьянин с сыном», «Крестьянка с ребенком». Две последние заказал художнику духанщик Баиадзе, именно он и сравнивал их так трогательно с иконами.
Общее впечатление от «деревенских» картин Пиросманашвили — полнота, насыщенность и конкретность. Однако детали почему-то не вспоминаются. Все сказано так укрупненно, так смело, что подробности не умещаются, становятся не нужны — они сами собой подразумеваются. (Как часто бывает наоборот: изображение насыщено деталями до предела, а оставляет впечатление скудности, отвлеченности, неполноты сказанного художником!)
Этнографу, изучающему внешнюю сторону грузинского быта (скажем, костюм или утварь), с произведениями Пиросманашвили нечего делать. Он не бытописатель, запечатлевающий колоритные картины жизни для стороннего любопытствующего наблюдателя. Он работал, инстинктивно отвечая потребности своего народа в самовыражении. По меткому суждению Г. Якулова, он был «рыцарем поэтического образа своей страны».[96]
При всем том присущая Пиросманашвили конкретность не изменяет ему и здесь. Как не оценить в его живописном шедевре, в картине «Крестьянка с детьми идет за водой», точность, с которой передана одежда всех персонажей, причем точность не этнографической зарисовки, скрупулезно перечисляющей все детали, а точность силуэта, крупных масс, характерной пластики, порожденной этой одеждой. Точен и жест женщины (и подражающей ей девочки), несущей пустой кувшин именно так, как носили его многие поколения грузинских женщин — положив на плечо и придерживая за ручку. Вся эта характерность, напоминающая о давно оставленном, была, конечно, дорога художнику.
Воссоздавая будничное, Пиросманашвили от будничного уходит. Пейзаж здесь погашен: притемнен, упрощен и уплощен — он есть, но его словно и нет. Какой-то намек на холмы и громадное серое небо, занимающее более половины картины, — не пространственная среда, а скорее полуусловный, неглубокий фон для красивой и величественной группы, напоминающей собой скульптурный монумент или рельеф.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пиросмани"
Книги похожие на "Пиросмани" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани"
Отзывы читателей о книге "Пиросмани", комментарии и мнения людей о произведении.