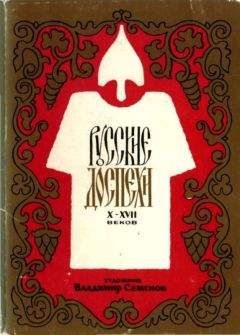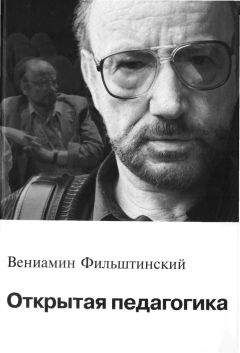Эраст Кузнецов - Пиросмани

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пиросмани"
Описание и краткое содержание "Пиросмани" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена великому грузинскому художнику Н. Пиросманашвили, пользующемуся сегодня мировой известностью. Автор воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества мастера, раскрывает смысл и своеобразие его самобытного искусства.
По сравнению с первым изданием нынешнее существенно расширено и дополнено новыми материалами. В книге — тоновые и цветные воспроизведения работ художника, а также документальный изобразительный материал, дающий представление о его облике и о той среде, в которой он жил и работал.
2-е изд., исправленное и дополненное
Впрочем, точно ли это пейзажи? В каждой картине что-то происходит, течет какая-то своя жизнь, небезынтересная для нас. Поезд стремительно выскакивает из тоннеля, моряки хлопочут на своих суденышках в «Батуми». Богомольцы медленно поднимаются в гору, к Давидову монастырю в «Тифлисском фуникулере». В «Арсенальной горе ночью» воссоздана целая сценка с людьми, коротающими ночь у костра или отдыхающими посреди долгого пути на арбе. Существует работа, привычно почитаемая за пейзажную, — уже названное «Панно в шести картинах» (одно из ее названий таким и было: «Шесть пейзажей»), но все ее шесть картин-клейм буквально переполнены людьми, куда-то едущими или идущими, отдыхающими, кутящими, работающими; среди них есть и малый вариант «Тифлисского фуникулера». Мы привыкли называть пейзажем «Большой марани в лесу». Там, в самом деле, есть очаровательный пейзажный мотив — лазурное небо в разрыве между зеленью виноградных лоз, а вдали на пригорке — марани, четко рисующийся на фоне неба (мотив по ощущению очень западногрузинский — мингрельский или имеретинский), но, кроме того, есть еще охотник с ружьем с одной стороны и дровосек с вязанкой дров — с другой, а весь центр занимает громадный квеври с маленькой лисичкой рядом, и наше внимание неизбежно переключается с пейзажа на немного забавное столкновение этих двух, столь разных по размерам, пластике, природе и форме, «героев».
Если уж и называть все эти картины пейзажами, то, скорее, следуя немного старомодной, но вполне удобопонятной терминологии, «фигурными». А иных у Пиросманашвили нет и, наверно, быть не могло. В его искусстве пейзаж был возвращен на его традиционное место — быть при человеке, подчиняться ему, оставаться только средой человека и не превращаться в самоцель. Но уж в этом качестве он оказывается силен и активен.
Материалом для «загородных» картин, как бы чудны некоторые из них нам ни казались, служила сама реальность. Путешественников разных времен не раз поражало тяготение грузин выносить свои трапезы на вольный воздух — пировать не дома, среди четырех стен, а хотя бы на открытой террасе или еще лучше — на природе, не ленясь для нескольких проносящихся как миг часов наслаждения привозить утварь и еду, сооружать столы, скамьи и временные навесы, защищающие от непогоды и солнца. Еще диковиннее казалось обыкновение пировать прямо на траве, под деревьями, или на вершине холма с распахивающимся во все стороны красивым видом, разостлав ковер и скатерть и разбросав и расставив хлебы, роги для вина, сыр, зелень, цветы и все прочее, в том числе и большие лаваши — вместо салфеток и маленькие — вместо тарелок, и поставив рядом музыкантов (недаром в грузинском языке «скатерть» и «трапеза» обозначаются одним словом и «столовое» вино должно быть переведено как «скатертное»). Это обыкновение дожило до наших дней. Маленькие духаны, разбросанные в изобилии за городской чертой, тоже по-своему утоляли потребность общения с природой, и даже убогие городские «сады» позволяли видеть над головой небо, а под ногами чувствовать землю.
«Загородные» картины — быть может, самые лиричные, самые трепетные и поэтические у Пиросманашвили. Рядом с возвышающе прекрасной, но обязывающей, почти суровой церемонностью «кутежей», рядом с отстраненностью крестьянских «эпосов», они увлекают удивительной непосредственностью изливаемого восторга. Что возбудило это богатство воображения, не сдерживаемого и не регулируемого никакими канонами, никакими условностями, которые так важны во многих других его картинах, — то ли давно и не раз пережитое, неизгладимо отпечатавшееся в душе чувство самозабвения, бездумно-сладкого растворения в природе — в шелесте деревьев, журчании ручья, щебете птиц, запахе трав, то ли не утоленная до конца жажда этого самозабвения, ищущая способов воссоздать его, пережить заново?
Все «загородные» картины — и «Белый духан», и «Пасхальный кутеж», и «Крцаниси», и «Фаэтон и ночной кутеж», и «Ишачий мост» — прихотливо разнообразны: в каждой — свое настроение, свой тон, свое состояние.
Чудо чисто живописного лиризма — «Белый духан». В нем можно увидеть заурядную сцену из старотифлисского быта: двое приятелей приезжают на фаэтоне в загородный духан. Однако все это — и фаэтон, и духан, и хозяин в дверях, и шарманщик под деревом — показано с полным пренебрежением к бытовой прозе и даже к документальной достоверности. Достаточно сказать, что знаменитейший, всем прекрасно знакомый «Белый духан», стоявший на Коджорской дороге, обрисован совершенно схематически — это просто «домик вообще» с вывеской (которая, кстати сказать, на самом деле была голубая, а не белая). Художник безразличен к подробностям, и действительно, не в них дело, а в самой живописи — главным образом в тончайшем холодно-серебристом, очень светлом колорите, образованном простым смешением белил и тускло-зеленой краски на черной клеенке. Это тона раннего, немного туманного утра, гасящего яркость красок и силу страстей, растворяющего в себе прозаизм будничных забот, пробуждающего человека от дремоты, чтобы явить ему красоту очистившегося за ночь и как бы заново рожденного мира. А двое в фаэтоне менее всего похожи на загулявших кутил, жаждущих продолжить начатое в городе веселье. Нет, это лирики, романтические созерцатели, мечтатели. Букеты, которые они держат в руках, — нечто нежное и бесплотное, легкая вспышка розоватого тона (то самое «чуть-чуть» живописи Пиросманашвили!) — это едва ли не главная деталь, смысловой фокус картины и ее цветовой камертон.
Зрелищем, исполненным романтичности и даже отчасти некоторой таинственности, предстает картина «Фаэтон и ночной кутеж». Здесь царит смоляная чернота южной ночи, из которой кисть художника выхватывает немногое: кусок густо-синего неба, отдаленные холмы, приглушенную зелень деревьев, извивающуюся реку, сияющую серебром под невидимой луной, крохотный загородный духан (стойка со стоящим за нею духанщиком, двускатная крыша и полки с рядами бутылок — не изображение, а иероглиф духана, начертанный стремительно и уверенно), а на переднем плане стол с пирующими, троих музыкантов, этих непременных спутников веселья, и, наконец, все тот же фаэтон, стоящий в стороне.
А картина «Ишачий мост» — увлекательный рассказ. Этот мост (а уж если сказать точнее, то легкий пешеходный мостик, заново наводившийся каждый год) соединял когда-то берега Куры в районе Ортачала. Вечерами вереницы фаэтонов доставляли туда жаждущих найти самозабвение под сенью ортачальских садов.
Глаз тут перебегает от фигуры к фигуре, от группы к группе — от духанщика за стойкой к слуге рядом, к танцующему кинто (характерные движения его танца переданы с поразительной живостью), к небольшой компании, кутящей за столом, к дрессированному медведю и к барану, ждущему своей участи, к шарманщику, сидящему на стуле, к старому слуге, идущему с букетом (без цветов веселье не обойдется!), к мальчику, погоняющему осла по мостику (деталь мелкая, но важная, это зашифрованное название картины), к слуге с блюдом, направляющемуся к другой компании, которая кутит в беседке под игру неизменного трио музыкантов, к еще одному танцующему кинто, а от него к двум компаниям, кутящим прямо в лодках. Ни один из этих эпизодов невозможно выделить, назвать главным, все они — составные части увлекательного в своем богатстве мира, вместе с большими деревьями, рощами, убегающими вглубь по склонам холмов, быстрыми волнами реки, раскачивающими лодки, черным ночным небом с кудрявыми облаками, серебристой луной и большими черными птицами, тихо скользящими в воздухе.
Пейзажные мотивы Пиросманашвили подчас кажутся написанными с натуры (скажем, в «Свадьбе в Грузии былых времен» явно «узнаются» окрестности Мирзаани), но это обманчиво: все они сочинены — скомпонованы, сотворены заново из зрительных впечатлений, которые хранила память художника. Он и не стремился воспроизводить какие-то конкретные уголки родного края. Он словно избегал всякой возможности подчеркнуть их индивидуальность. Что мешало ему в картине «Праздник святого Георгия в Болниси» изобразить хотя бы с минимальным сходством известнейший и древнейший храм, Болнисский Сион, который, собственно, и был центром праздника? А в «Кахетинском эпосе» — другой, не менее, если не более, знаменитый храм — Алавердский, с его характерным высоким подкупольным барабаном (что и дало повод Георгию Леонидзе сравнить его с белым лебедем, плывущим по долине)? Но и здесь, и в других картинах, как будто посвященных вполне конкретным местам, он упрямо продолжал рисовать очень мало отличающиеся друг от друга, сильно схематизированные обозначения церквей (так несколько столетий тому назад одна и та же гравюра в одной книге могла заменять собою изображения совершенно различных монастырей).
Пейзажи Пиросманашвили — это картины «всей Грузии».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пиросмани"
Книги похожие на "Пиросмани" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани"
Отзывы читателей о книге "Пиросмани", комментарии и мнения людей о произведении.