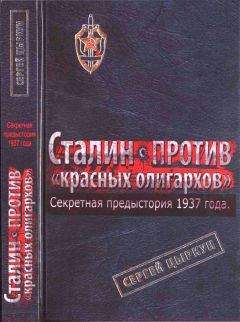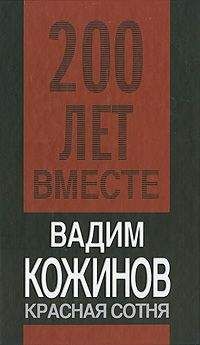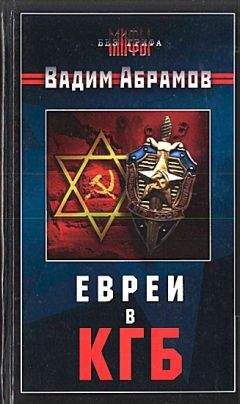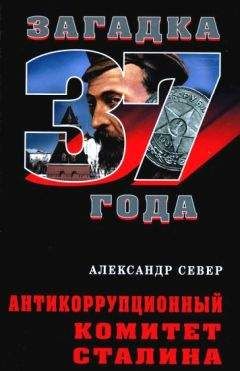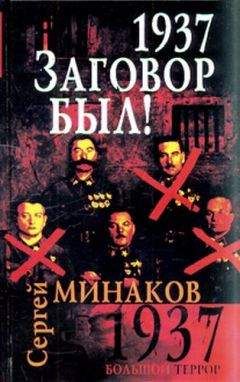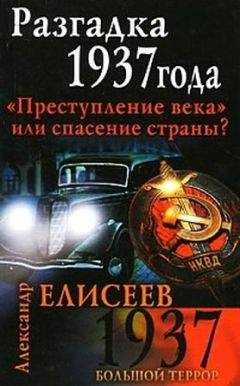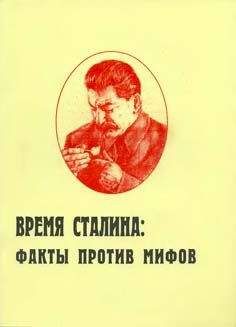Вадим Роговин - 1937

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "1937"
Описание и краткое содержание "1937" читать бесплатно онлайн.
Вадим Захарович Роговин (1937—1998) — советский социолог, философ, историк революционного движения, автор семитомной истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) и Коминтерне в 1922—1940 годах. В этом исследовании впервые в отечественной и мировой науке осмыслен и увязан в единую историческую концепцию развития (совершенно отличающуюся от той, которую нам навязывали в советское время, и той, которую навязывают сейчас) обширнейший фактический материал самого драматического периода нашей истории (с 1922 по 1941 г.).
Название четвертого тома говорит само за себя — это самый страшный год в истории России. На основе многих исторических материалов, в том числе архивных документов, автор во многом по-новому раскрывает механизм великой чистки, массовых репрессий, ежовщины.
В докладе Жданова указывалось, что в ходе выборной кампании может выплеснуться недовольство масс «известным нажимом», без которого не обходится «немало трудных кампаний». Утверждая, что такой нажим «входит в понятие диктатуры рабочего класса», Жданов заявлял: «Мы не отказываемся от этого нажима, и впредь было бы смешно от этого отказываться. Будет, очевидно, демагогия насчет раздувания всякого рода недостатков наших работников по этой линии. Партийные организации должны уметь взять под защиту этих людей (т. е. «нажимщиков».— В. Р.)», против которых может быть развёрнута агитация «со стороны враждебных элементов» [574].
При обсуждении второго аспекта «перестройки» — демократизации деятельности партийных и иных организаций — на пленуме была раскрыта удручающая картина полного подавления демократических начал на всех уровнях политической и общественной жизни. Временами могло показаться, что возвращается партийная дискуссия 1923 года, а ораторы повторяют аргументы тогдашней оппозиции.
Жданов говорил, что большинство партийных комитетов — начиная с первичных организаций и кончая обкомами и ЦК союзных республик — не переизбирались после XVII съезда, т. е. на протяжении трёх лет — в нарушение партийного Устава, требующего производить такие перевыборы раз в год-полтора [575]. Вслед за ним Постышев сообщил, что после XVII съезда на Украине не созывались районные, городские и областные партконференции, «и, к сожалению, голосов, которые требовали бы созыва таких конференций, не было… Ждали распоряжения сверху». На последовавший за этими словами вопрос Сталина: «А Устав?» Постышев сокрушенно ответил: «Устав забыли, товарищ Сталин» [576].
Другим вопиющим нарушением партийной демократии выступавшие называли широко распространённую практику кооптации в руководящие партийные органы. Приводились примеры, когда кооптировалось до 40—45 % состава обкомов, причём зачастую такая кооптация проводилась не на пленумах, а опросом. Аналогичная практика существовала в советских и профсоюзных органах: президиумы некоторых горсоветов состояли целиком из кооптированных членов; в центральных комитетах многих профсоюзов «от выборных членов остались рожки да ножки».
Наряду с выборностью, исчезла и предусмотренная Уставом партии отчётность выборных работников перед избравшими их организациями. Как отмечал Постышев, роль пленумов партийных комитетов как коллективов, перед которыми ответственны аппаратчики, фактически сошла на нет; пленарные заседания обкомов сводятся к заслушиванию инструктивных докладов секретарей обкома, «которые нередко читают нотации членам обкома. Нет такого положения, чтобы член бюро обкома чувствовал себя подотчётным перед пленумом обкома» [577].
Как явствовало из доклада и прений, фактически разрушенными оказались и все остальные элементы партийной демократии. Во многих районах пленумы райкомов не созывались по 7—10 лет. Если же они и происходили, то выборы аппаратчиков превращались на них в фактическое назначенство: секретари заранее подбирались вышестоящими комитетами, утверждались Центральным Комитетом и затем рекомендовались пленуму, имея «две санкции: санкцию обкома и санкцию Центрального Комитета». На партийных конференциях кандидатуры для выборов в парткомы обсуждались в закрытом порядке узким кругом аппаратчиков, а затем предлагались для голосования списком, чтобы «избавиться от докучливой критики партийных масс по отношению к той или иной кандидатуре» [578].
Недемократическим путём происходило и исключение выборных членов партийных комитетов. Поскольку из состава райкома или горкома зачастую исключалась «целая пачка людей», то созывались «расширенные» заседания пленумов совместно с произвольно подобранным «партийным активом». На одном из таких «расширенных пленумов», который вывел из состава горкома 12 человек, присутствовало всего 10 членов горкома; таким образом, «10 человек сожрали 12 человек» [579]. По-видимому, такие массовые исключения, о которых рассказывали ораторы, проходили в условиях, когда исключаемые находились под арестом.
Вместо попранных демократических процедур получила широкое распространение практика «самоотчётов» коммунистов перед первичными партийными организациями. Под общий смех зала Жданов приводил пример одного такого «самоотчёта», после которого партийное собрание приняло резолюцию: «Слушали самоотчёт коммуниста Слирова. Постановили: Слирова арестовать» [580].
На пленуме приводилось немало примеров полного отрыва аппаратчиков от партийных масс. Постышев рассказывал, что в Киеве заведующие отделами ЦК не считали нужным посещать собрания первичных организаций, в которых они состояли [581]. Секретарь Днепропетровского обкома Хатаевич признавался, что ещё 4—5 лет назад он считал своей безусловной обязанностью раз в неделю посещать партийные собрания на заводах, в колхозах и т. д., а на протяжении последнего года ни разу не присутствовал на таких собраниях [582].
В первичных организациях роль партийных собраний зачастую становилась чисто формальной: «резолюция по тому или иному вопросу вносится загодя или кропается мастерами этого дела во время самого собрания без учёта того, о чём говорится в прениях» [583].
Из выступлений участников пленума следовало, что демократические принципы оказались попраны не только в партийных, но и во всех государственных и общественных организациях. Ответственные работники, избранные в Советы, нередко уклонялись от выполнения своих элементарных депутатских обязанностей. Прекратились широко распространённые ранее регулярные отчёты перед населением работников потребительской кооперации, торговли, коммунального хозяйства и т. д.
В трудовых коллективах сошла на нет роль общественных организаций, а решение всех вопросов перешло в руки «треугольника», состоящего из директора предприятия, секретаря парткома и председателя профсоюзного комитета. Таким образом, возникла «в стороне от нормальных выборных органов [парткома и завкома] своеобразная официально и регулярно действующая, никакими партийными и советскими законами не предусмотренная организация. Она собирается, выносит решения и даёт директивы к исполнению и т. д.» [584].
Бюрократизация всей общественно-политической жизни выразилась и в ограждении аппаратчиками себя от критики со стороны нижестоящих. Как говорил Косиор, на съездах Советов, пленумах исполкомов и горсоветов «считалось большой бестактностью, если кто-нибудь случайно выступит с критикой против председателя или какого-либо другого лица. Даже заведующие отделами считали для себя такую критику большим оскорблением» [585].
«Первые лица», полностью вышедшие из-под контроля масс и ставшие единовластными хозяевами в своих регионах, как бы соревновались друг с другом в насаждении своих «культов». Авторитет руководящего работника стал измеряться тем, сколько колхозов, предприятий, учреждений названо его именем [586].
От отдельных фактов и примеров выступавшие переходили к серьёзным обобщениям. В ряде выступлений подчёркивалось, что вместо демократического централизма в партии утвердился бюрократический централизм. В заключительном слове Жданова прямо указывалось: среди аппаратчиков укоренился взгляд на партию не как на самодеятельную организацию, а как на «что-то вроде системы учреждений низших, средних, высших» [587].
На пленуме приводились статистические данные, свидетельствовавшие о неблагоприятном изменении социального состава партии, уменьшении в ней доли рабочих и резком возрастании доли бюрократии. Например, в Воронеже 5,5 тыс. членов партии работали в государственных учреждениях, 2 тыс.— в вузах и около 2 тыс.— на предприятиях; коммунистов-рабочих у станка насчитывалось всего 550 человек. На одном воронежском заводе из 3,5 тыс. рабочих только трое были членами партии [588].
Казалось бы, раскрытая на пленуме картина деградации всех политических институтов должна была побудить выступавших к анализу причин такого положения и к выводу об ответственности за него высшего партийного руководства. Однако Сталин, направлявший своими репликами ораторов на внесение в критику нужных ему акцентов, толкал их на создание новой амальгамы: возложение вины за подрыв партийной демократии на… «замаскированных троцкистов».
Лучше всего этот сталинский замысел уловил Евдокимов, заявивший, что «контрреволюционная банда троцкистов, зиновьевцев, правых, „леваков“ и прочей контрреволюционной нечисти захватила руководство в подавляющей части городов края. Эта банда ставила себе задачей, в целях дискредитации партии и советской власти, развал партийной и советской работы. Она всячески зажимала самокритику, насаждала бюрократизм в партийных и советских организациях, подвергала гонениям людей, осмелившихся выступать против них, что было прямым издевательством над внутрипартийной и советской демократией». В подтверждение этого Евдокимов приводил показания арестованных партийных работников о том, что они в целях возбуждения недовольства партийным аппаратом «зажимали самокритику, душили всякое живое слово, оставляли без последствий заявления и жалобы трудящихся. Всех, кто пытался где-либо на собрании критиковать эти порядки, одёргивали». На вопрос Сталина, как обстоит в крае дело с кооптацией, Евдокимов незамедлительно ответил: «Кооптация в партийных органах широко применялась, товарищ Сталин. Из этих кооптированных порядочное количество сейчас сидит в органах НКВД. (Смех.)» [589]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "1937"
Книги похожие на "1937" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Роговин - 1937"
Отзывы читателей о книге "1937", комментарии и мнения людей о произведении.