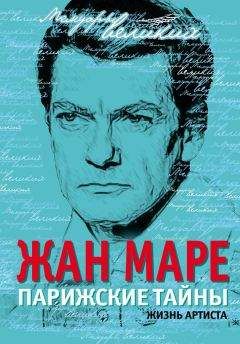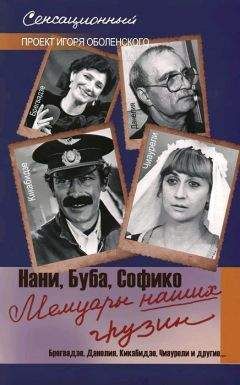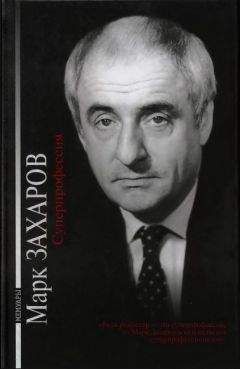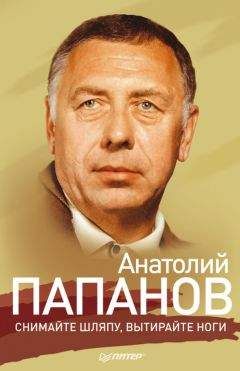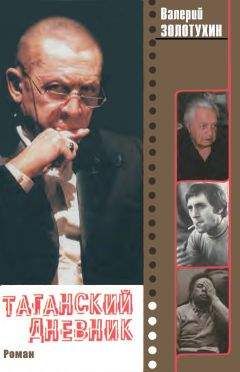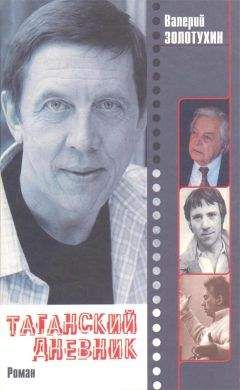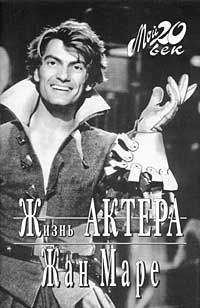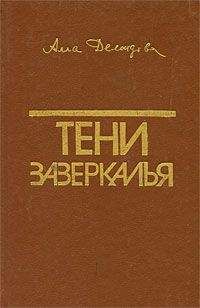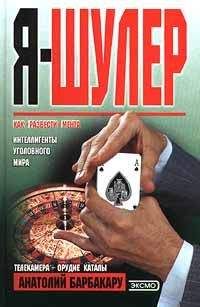Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Профессия: режиссер"
Описание и краткое содержание "Профессия: режиссер" читать бесплатно онлайн.
Анатолий Васильевич Эфрос (1925–1987) еще при жизни стал легендой русского театра. Его спектакли на сценах ЦДТ, Ленкома, МХАТа, Драматического театра на Малой Бронной, Театра на Таганке поражали современников своей оригинальностью и самобытностью. Эфрос был просто «не способен» поставить тот или иной спектакль так, как ставили раньше: «Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам». И потому его спектакли всегда отражали состояние современного общества, даже если Эфрос брался за постановку Шекспира или Мольера, Гоголя или Тургенева, Толстого или Чехова… Он был истинным Мастером, он всегда стремился к гармонии, а это, по его определению, — «величайшее беспокойство, выраженное совершенно». «Режиссер — это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей», — так определял Анатолий Эфрос главную особенность своей профессии. Но поэтом он был не только на сцене. Его книги по сути своей — монолог поэта, «человека, который не боится одиночества», человека, влюбленного в свое дело, в своих актеров, в своих учеников и учителей. В наше издание вошли книга Эфроса «Профессия: режиссер» и избранные главы из «Продолжения театрального романа» и «Книги четвертой». Всё вместе — это поистине захватывающий «театральный роман», насыщенный глубокими и емкими размышлениями о жизни, о профессии, об окружающих людях — а среди них известные драматурги, ведущие артисты российских и зарубежных театров.
Уже став режиссером, я работал с этим артистом. Я очень хотел с ним работать, потому что он был для меня образцом. Уж с ним-то, казалось мне, я сработаюсь!
Если я так понимаю его творчество, то и он, вероятно, поймет хотя бы частицу меня. И он действительно понимал. Когда хотел. Но хотел он очень редко. Его характер главенствовал над его талантом. Пока мы были вдвоем, все шло как нельзя лучше, но появлялся третий — и моего кумира нельзя было узнать. Прекрасно выучив текст, он вынимал тетрадку и демонстративно начинал читать по складам. Или задавал мне такие вопросы, на которые давно мы вместе ответили. Но теперь он тот же ответ высмеивал, придирался к пустякам, мешал репетировать. Это не был сознательный ход. Срабатывал характер, который маленькому актеру приходится обуздывать, если он таким характером наделен, а этот себя чувствовал свободным от такой необходимости.
Возможно, это была требовательность к себе и другим, но я никогда не был сторонником того, чтобы требовательность была сродни самодурству.
Потом очень много лет я не видел его, только опять и опять слышал о нем. Иногда говорили хорошее, чаще плохое. Хотя почти все за талант уважали. И вот одна секунда — и все это в прошлом…
И к горю примешивается частица какой-то неуместной досады из-за нелепого, что было в этом замечательном актере, не нужного ни нам, ни ему самому.
* * *Лобанова я не знал лично. Он был руководителем одного из курсов ГИТИСа. А я учился у других педагогов (тоже хороших).
Актеры Ермоловского театра, с которыми я был знаком, говорили, что Лобанов у себя на репетициях жаловался на необходимость быть в институте как раз в те часы, когда его очень тянуло отдохнуть между репетицией и вечерним спектаклем.
Внешне, на мой взгляд, он был похож на Обломова — большой, полный, добродушный и, казалось, даже ленивый. Еще он был важный. Ходил очень медленно, животом вперед, почти не поворачивал головы в сторону собеседника. Тому всегда приходилось делать какое-то усилие, чтобы быть услышанным. Так мне, во всяком случае, со стороны казалось. Когда Лобанов шел по коридору института, это всегда было заметно. И не только потому, что он был значителен внешне, но оттого, что все знали его театр, его спектакли и очень любили их. Ермоловский театр в то время, когда Лобанов руководил им, был в Москве, пожалуй, самым интересным театром. Он возник (опять-таки для меня) как-то внезапно, без каких-либо широковещательных объявлений, просто стал известен каким-то своим спектаклем, и потом не было, пожалуй, случая, чтобы мы все не ходили на каждую его премьеру.
Театральные студенты — в чем-то очень чуткий народ. Они сразу понимают, куда следует ходить, а куда не обязательно. Впрочем, этой чуткостью обладают не только студенты. Одним словом, Ермоловский театр тогда очень любили, там даже средняя пьеса воспринималась настолько свежо и необычно, что, безусловно, давала немалое представление о жизни. Это был театр, не похожий на другие. Его особенностью была способность к жанрово-бытовой характеристике.
Вообще-то теоретически я не люблю такое искусство. Но, вероятно, практика любого художественного течения, когда она осуществляется людьми талантливыми, самобытными, разрушает всякие теоретические предвзятости.
Вот почему, несмотря на нелюбовь к такому искусству, лобановские спектакли я очень любил. Смотреть их было всегда интересно.
Актеры его труппы рассказывали, что человек он был как бы с разоблачительным зарядом. У него был особый глаз на все дурацкие людские проявления. Он замечательно вытаскивал нелепую, смешную сторону действующего в пьесе лица. И очень смешно, разоблачительно показывал актерам сущность или привычки того или иного человека.
Однажды, это был единственный раз, я случайно, на одну минуту, попал в зал, когда репетировал Лобанов. В ожидании одного из своих товарищей-актеров я позволил себе войти в зал, услышал маленькое замечание Лобанова и тотчас ушел, о чем жалею.
Замечание, вернее, совет адресовался актеру, игравшему в «Спутниках» роль доктора Супругова. Тот сидел в купе вагона со стаканом чаю в руке и с кем-то беседовал.
Лобанов попросил его, не прекращая беседы, открыть сахарницу, положить себе в чай ложку сахару, потом другую, а затем, слегка оторвавшись от разговора и подумав, положить еще и третью. При этом Лобанов показал, как Супругов это делает. Все засмеялись, потому что это был точно Супругов.
В его спектаклях была уйма подобных точных мелочей, и все они составляли живую и цельную картину жизни какого-то круга людей, как он, Лобанов, их видел.
Разумеется, не только плохих, но и хороших людей он наделил массой живых черточек, отчего они не казались картонными, как это иногда с хорошими людьми бывает на сцене.
Я написал, что это было жанровое искусство, и испугался. Не за то ли, сказал я себе, и ругали Лобанова, считая, что жанр сам по себе гораздо ниже такого, например, понятия, как психологизм. Может быть, это понятие действительно ниже, а я, вспоминая Лобанова, опять прибегаю к нему. Но дело в том, что всякая художественная манера хороша, когда она настоящая.
А так называемое психологическое искусство совсем не прекрасно, когда оно лишь вторит чему-то.
А Лобанов в своем жанре был абсолютно самобытен. Он в своем искусстве полностью выражал себя. Это было настоящее искусство, и потому оно могло соперничать с любой другой манерой. Впрочем, и психологизма оно тоже, конечно, не было лишено.
Однажды я, находясь в деканате, увидел, что дверь открылась и показался Лобанов. Преподавательница, сидевшая у дверей, в знак уважения к нему привстала, чтобы уступить ему место, и тут с Лобановым случилось нечто, о чем я помню так долго. А ведь прошло, пожалуй, лет двадцать пять.
Лобанов, увидя, что ему хочет уступить место женщина, невзирая на свою тучность, сделал до необычайности стремительный рывок, и такой легкий рывок, чтобы остановить ее и усадить обратно. При этом он покраснел от смущения.
Вполне возможно, что, кроме меня, никто и не заметил этого, ибо все были чем-то заняты. Я же был ошеломлен этим внезапным секундным раскрытием столь барственного внешне человека.
«Ах, вот он какой на самом деле, этот Лобанов», — подумал я, таким его и запомнил.
Важным он был лишь по виду, а на самом-то деле он — нежный. И эта его нежность особым образом окрашивала его будто бы недобрую художественную зоркость. Не знаю, может быть, именно поэтому жанровость его манеры столь привлекала к себе.
Мне весь тот период, когда работал Лобанов, кажется почему-то коротким. Однажды на одном из спектаклей мы узнали его искусство, а потом через какой-то миг оно исчезло. Но его еще вспомнят неоднократно.
* * *Правда ли, что у Ф. Г. Раневской нелегкий характер? Кажется, правда. Я работал с ней только над одной ролью. Вероятно, этого мало для выводов, но все же помню, что характер действительно нелегкий.
Она резка, за словом в карман не лезет, говорит то, что думает, сразу и в очень нелицеприятных выражениях. Голос у нее басовитый, говорит она растягивая слова, и вот этим неторопливым баском она вдруг как скажет что-нибудь про тебя или кого-то другого — сразу и не найдешься, что ответить.
Ее побаиваются. Ей очень многое не нравится из того, что делается в театре, что она видит вокруг себя. Ее раздражает неумелый партнер, и она не притворяется, будто он ей нравится.
В пьесе, которую мы ставили, молодой актер играл кельнера. Он не нравился Фаине Георгиевне непониманием простых задач, не нравился даже своим обликом. И она этого не скрывала.
Я в своей режиссерской практике привык ласково подходить к каждому вне зависимости от того, верно артист делает то, что я требовал, или неверно. По существу я думал так же, как и она, однако я не мог себе позволить быть недипломатичным, а она могла. Разумеется, и этот молодой человек, и другие в подобных случаях не очень были ей за это признательны. Впрочем, они чувствовали, что ее максимализм вполне оправдан: она, конечно, репетировала лучше других, несравнимо лучше. Ее творческий организм куда богаче многих других организмов. Поэтому другие актеры, которым удалось быть ее партнерами, скорее робели перед ней, чем любили ее.
В ней есть какая-то мощь натуры, с которой надо считаться. Это, однако, не та властная мощь, какая была когда-то, допустим, у Пашенной. То была хозяйка театра, актриса, принадлежавшая своему коллективу, огромное количество лет в нем проработавшая, где всё, если так можно выразиться, по праву принадлежало ей.
Раневская сменила множество коллективов. Ее судьба сложилась не столь цельно, она всегда представляла собой отдельность. Она как бы не вписывалась в рамки любого театра. Она оставалась всегда немножко сама по себе. И потому ее мощь какая-то хрупкая, незащищенная. Ее боятся, но столь же легко можно ее и обидеть. Она, по-моему, столь же беззащитна, сколь резка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Профессия: режиссер"
Книги похожие на "Профессия: режиссер" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер"
Отзывы читателей о книге "Профессия: режиссер", комментарии и мнения людей о произведении.