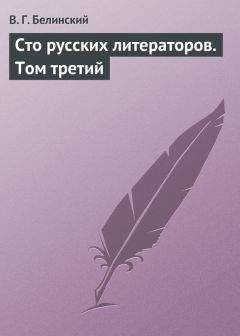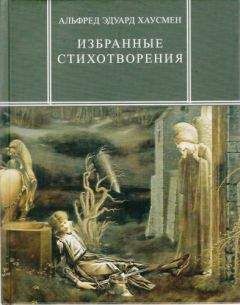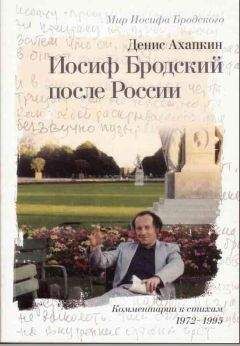А. Долинин - Владимир Набоков: pro et contra T2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Набоков: pro et contra T2"
Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: pro et contra T2" читать бесплатно онлайн.
В настоящее издание вошли материалы о жизненном и творческом пути Владимира Набокова в исследованиях как российских, так и зарубежных набоковедов. Многие материалы первого и второго разделов, вошедшие в книгу, являются результатом многотрудных архивных изысканий и публикуются впервые. Третий раздел составляют оригинальные статьи современных русских и зарубежных исследователей творчества писателя, не издававшиеся ранее в России.
Книга адресована как специалистам-литературоведам, так и широкому кругу читателей, и может служить учебным пособием для студентов.
Примерно такое же движение наблюдается и на уровне строки: соотношение верхних и неверхних ударных гласных в неконечных для строки позициях равно 11:23, а в конечных (т. е. в рифмах) — 0:16: к концу строк неверхние вытесняют верхние.
Конечный мягкий н' в сирень становится образцом для употребления н в тексте. H тяготеет к концу словоформы/основы. Из 38 н в тексте — 24 суффиксальных. Еще 10 раз н встречается в корнях знаменательных слов и 8 раз из этих 10 оказывается последним звуком корня; 4 употребления падают на приставки и служебные слова. Следовательно, из 38 н только 2 оказываются непоследним звуком корня, оба раза в слове ночь.
Контраст этому являет другой носовой согласный, м: из 14 м текста 13 корневых, в том числе о 10 можно сказать, что они располагаются ближе к началу корня. Любопытно, что в границах одного слова последовательность м — н встречается в тексте 8 раз, а н — м — только 1 раз.
Поскольку анализируемое стихотворение написано пятистопным хореем, на материале которого К. Ф. Тарановским была выдвинута концепция экспрессивного ореола стихотворного размера,[37] невозможно обойти взаимоотношения набоковского текста с предшествующей традицией. В анализируемом стихотворении соблазнительно увидеть особый случай метрической полемики: Набоков избегает цезуры (словораздела) после третьего слога (только в 6 строках из 16), что обычно предполагается в традиции (в «Выхожу один я на дорогу…» Лермонтова, прототипическом тексте традиции, — 20 случаев из 20, и в других авторитетных текстах — более половины). Возможно, имеют место и некоторые инвертированные переклички. Так, если стихотворение Лермонтова начинается «Выхожу один я на дорогу», то у Набокова оно заканчивается «Повернулась плавно и ушла». Во второй строке у Лермонтова «Сквозь туман…», а у Набокова во второй строке с конца «туманна и светла». Некоторые параллели возможны и с «Не жалею, не зову, не плачу…» Сергея Есенина.[38]
С. ДАВЫДОВ
Набоков: герой, автор, текст
Прежде чем приступить к переводу «Евгения Онегина», В. Набоков провел «пробу пера» на переводе «Моцарта и Сальери» и «Пира во время чумы».[1] Перевод этих двух «Маленьких трагедий» является своеобразной эстетической призмой, сквозь которую можно рассмотреть не только поэтику, но и едва уловимую метафизику самого Набокова.
Творческая зависть к более одаренному сопернику — воистину набоковская тема. В большинстве произведений Набокова сталкиваются два неравных творческих сознания, причем посредственный талант претендует на первенство и пытается вытеснить более одаренного соперника. Обозначим здесь самые явные пары соревнующихся талантов: карикатурист Рекс и слепой Альбинус («Камера обскура»), импресарио Валентинов и гроссмейстер Лужин («Защита Лужина»), убийца и писатель Герман и художник Ардалион («Отчаяние»), палач-виртуоз Monsieur Pierre и поэт Цинциннат («Приглашение на казнь»). Синдром Сальери мелькает и в зависти Федора к поэту Кончееву, «таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог пресечь».[2] На другом уровне этого же романа соперником Федора является Чернышевский, а камнем преткновения — Пушкин, чье поэтическое наследство «шестидесятники» попытались обесценить. В «Истинной жизни Себастьяна Найта» младший брат В. проиграл свой писательский поединок с Себастьяном, но легко побеждает писателя Гудмэна, состряпавшего пошлую биографию Себастьяна Найта. В «Лолите» два писателя-монстра, изысканный европеец Гумберт и американский пошляк Куильти, «сцепляются рогами» над нимфеткой. В «Бледном огне» помешанный комментатор Кинбот паразитирует на произведении истинного поэта Шейда и пытается присвоить себе даже его смерть.
Наподобие Сальери менее одаренный художник у Набокова свершает этическое или эстетическое преступление против своего соперника, за что его постигает жестокая авторская кара. У Пушкина Сальери отравляет Моцарта, но до последнего дня он будет мучим словами Моцарта о «несовместности гения и злодейства». Набоков любит проверять этическую прочность этой апофегмы. В его художественном мире истинные поэты не «человекоубийцы» («Лолита». Ч. 1. Гл. 20), а жертвы, и моральная победа остается за ними. Негодяев же автор карает, разрушает их мир, и мифическое их наказание продолжается иногда даже после смерти. В английском предисловии к «Отчаянию» непростившее божество напоминает героям, где их место: «…есть в раю зеленая аллея, где Гумберту позволено раз в год побродить в сумерках. Германа же Ад никогда не помилует».[3]
Выпад Сальери против Моцарта и неба развертывается у Набокова в своеобразную метафизическую драму. Набоков выстраивает свою метафизику по аналогии с поэтикой. Как некое антропоморфное божество, автор населяет страницы своих текстов человекоподобными существами и наделяет их долей артистической и метафизической интуиции. Более проницательные герои ощущают близость сотворившего их «божества», а некоторые даже осознают неполноценность существования в мире, где они обречены на смерть, как только роман Набокова кончится. За обложкой же книги, разумеется, бушует умопомрачительная действительность и «вечность», в которой обитает их творец и судия. Согласно набоковской поэтической теологии, писать скверно — смертный грех, и, следовательно, взыскательный автор жестоко карает тех, кто осмелились строчить свои каракули внутри «священного» авторского писания (см. рассказы «Уста к устам», «Адмиралтейская игла»). Пушкин использовал этот прием в «Евгении Онегине». На метапоэтическом уровне романа поэт Ленский проиграл свой поединок с более метким, чем Онегин, соперником — с самим Пушкиным, в чьем изысканном романе Ленский дерзнул писать свои элегии «темно и вяло». Смерть — справедливое наказание за такую оплошность.
В романе «Отчаяние» (1934) Герман убивает своего двойника, а затем пишет по свежим следам ущербный детектив. Божество отвергает жертвоприношение Германа и недвусмысленно извещает убийцу, что путь к бессмертию через искусство для него закрыт. Естественно, Герман бунтует: «Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки <…>. Бога нет, как нет и бессмертия, — это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое» (III, 393–394). За такой карамазовский выпад разгневанное божество бьет Германа постыдной «палкой», доводит его до отчаяния и сумасшествия и напоминает ему, что и в аду для него не будет пощады.[4]
Чтобы дать понять пишущему герою, что художественная неудача наказуема смертью, Набоков откровенно озаглавил свой следующий роман «Приглашение на казнь» (1935). Лист бумаги и «изумительно очиненный карандаш, длинный, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната» (IV, 6) — это все, что автор дает своему узнику, чтобы ответить на галантное «приглашение». В смертной камере рождается поэт, который суеверно пытается своим искусством унять ужас смерти, хотя и понимает, что пишет «темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт» (IV, 52).
«Слова у меня топчутся на месте <…>. Зависть к поэтам. Как хорошо должно быть пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень — сняться — и в синеву» (IV, 112). Благодаря «преступному» своему чутью Цинциннат почти научился так писать, но продолжает признавать превосходство авторского текста. Однако в мгновения метафизического озарения Цинциннат невольно сомневается в онтологической прочности мира, в котором он должен умереть в тот самый миг, когда либо автор поставит точку в последнем предложении, либо «палач-читатель» разрежет последнюю страницу книги. Но под конец романа Цинциннат открывает для себя неожиданную по своей простоте «гностическую» истину, а именно, что он не может умереть, потому что он всего лишь персонаж в романе, и что единственное смертное существо — это сам автор: «…и это было как-то смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора» (IV, 70). Пережив это откровение, Цинциннат зачеркивает последнее написанное им слово: «смерть»; он готов взойти на эшафот.
Поразительная выходка Цинцинната, кажется, застала автора врасплох, и он не решается казнить своего героя, чье искусство и метапоэтическое прозрение достойны метафизики самого автора. Одной рукой автор-демиург кое-как казнит «гнусного гностика», который отказом от «приглашения» вызвал крушение романа, но другой рукой автор-спаситель выручает хитроумного героя из катаклизмов рухнувшего романа за то, что тот успешно выдержал экзамен по набоковской метафизике. В конце «Приглашения на казнь» Цинциннат поднимается с плахи и направляется сквозь обломки и пыль рухнувшего романа «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему» (IV, 130). Это герой возвращается к своему творцу, создавшему его «по образу и подобию своему» — писателем. Своим «гностическим подвигом» Цинциннат добывает себе и долю авторского бессмертия, обещанного в эпиграфе: «Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels» («Как безумец считает себя Богом, так и мы верим, что мы смертны»).[5]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Набоков: pro et contra T2"
Книги похожие на "Владимир Набоков: pro et contra T2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Долинин - Владимир Набоков: pro et contra T2"
Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: pro et contra T2", комментарии и мнения людей о произведении.