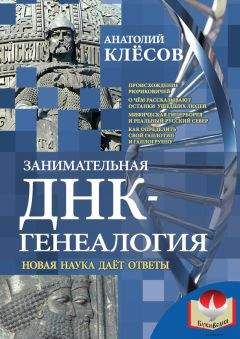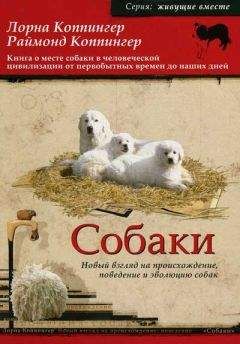Борис Поршнев - О начале человеческой истории
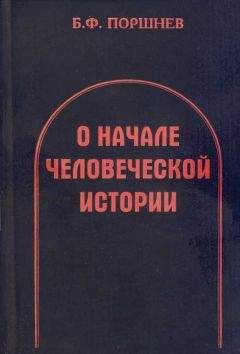
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О начале человеческой истории"
Описание и краткое содержание "О начале человеческой истории" читать бесплатно онлайн.
Впервые представлена в полном, не урезанном виде концепция антропогенеза (происхождения человека), выдвинутая профессором Борисом Фёдоровичем Поршневым (1905–1972).
Эта Книга, стоившая жизни её автору, знаменует начало полного пересмотра всех наук о человеке, сравнимого лишь разве что с коперникианской революцией в астрономии.
Официальная антропология оказалась неспособной воспринять идеи Поршнева. Ибо сама эта «наука о человеке», к сожалению, занималась и занимается преимущественно второстепенными вопросами и даже откровенной ерундистикой, она «не приметила» самого главного, а потому так и не смогла ответить на вековечный «вопрос всех вопросов»: как именно, как конкретно, как на самом деле произошёл человек? Исчерпывающий доказательный ответ на этот вопрос дал великий русский учёный Борис Фёдорович Поршнев.
Для философов, социологов, психологов, лингвистов, для самого широкого круга читателей.
Книга выходит при финансовой поддержке фирмы «Марков. Издательский дом».
Плотоядные рыбы, такие как щуки, поедают своих мелких собратьев в некотором проценте к остальной добыче; особенно примечательно, что в озёрах, где разведены окуни и нет другой рыбы, более крупные окуни постоянно поедают значительную часть более мелких, но уже в той или иной мере откормившихся на растительной пище. В таком чистом, экспериментальном примере вопрос о соотношении биомасс уже не выглядит парадоксально. Вот и скотовод-кочевник ежегодно уничтожает значительную часть поголовья своего стада, преимущественно молодь, дав ей откормиться до известного предела, а среди молоди — почти поголовно всех мужского пола, а стадо, в целом, при этом не уменьшается и даже разрастается.
С учётом этих зоологических реалий, вернёмся к палеоантропам, находившимся в условиях кризиса источников мясного корма при достигшей максимума плотности их собственной популяции. Повышенный пищевой интерес к своим собратьям мог выразиться: а) в форме некрофагии, т. е. максимально полного использования трупов палеоантропов, умерших от разных естественных причин; б) в поедании избыточной части молодняка, выросшего на материнском молоке и на растительной пище; в) в разрастании схваток, преимущественно между взрослыми самцами, в итоге которых могло появляться добавочное трупное мясо; г) в специализированных средствах убийства.
Для первой группы мы располагаем упомянутыми выше прямыми материальными остатками. Все признаки каннибализма у палеоантропов, какие известны антропологии и археологии, казалось бы, прямо говорят не более как о посмертном поедании черепного и костного мозга, вероятно, и всего трупа подобных себе существ. Только чуждый биологии моралист, исходящий из неких неизмеримо позже сложившихся норм, может усмотреть в этой утилизации наличных ресурсов мясной пищи что-либо порицаемое и мысленно исключённое. Мёртвый представитель своего вида — тем самым уже не представитель своего вида. Использование в пищу трупов или останков себе подобных, погибших от той или иной внешней причины, не относится к категории адельфофагии или чего-либо подобного.
Но взглянем на совсем другую группу фактов. Может быть, её следует связать с последней категорией. В слоях позднего мустье впервые, хоть и не часто, встречаются несомненные каменные наконечники для копий. Впервые оружие, бесспорное оружие входит в жизнь палеоантропов! И это случилось незадолго до возникновения Homo sapiens. Когда мы рассматриваем эти позднемустьерские наконечники, мы не можем не задуматься над тем, в какое же животное, в какую шкуру и кожу должно было вонзиться это оружие, чтобы принести смерть[633]. Археологи различают два разных типа мустьерских наконечников: более крупные и массивные, по их мнению, предназначались для рогатин, небольшие плоские наконечники — для дротиков[634]. Однако всё это, ставшее почти традиционным различение, мало обосновано. Идея о двух, столь радикально различных, видах оружия на древке как контактное, упираемое в землю одним концом типа рожна или рогатины, и метательное дистантное типа дротика является чисто гипотетической конструкцией. Что же касается массивности каменных наконечников то осторожнее констатировать не два радикально отличающихся типа, а всего лишь градацию от плоских маленьких наконечников до неуплощённых и несколько больших по размеру. Но все они в общем достаточно невелики. Характерно, что их находят в ряде случаев с отломанным острым концом. Действительно, они не так уж крепки, чтобы не сломаться при сильном ударе. Слон, бизон, носорог, крупный олень, — нет, этих и подобных им животных следует исключить. В мелких животных не попадёшь на дистанции таким составным копьем. Чем дольше рассматриваешь такой кремневый наконечник — и не только позднемустьерского, но и верхнепалеолитического времени, например, изящные солютрейские листовидные наконечники — тем более наглядно видишь, что они годятся, пожалуй, для поражения лишь одной определённой добычи: размером с человека с кожей примерно человеческой толщины. И тогда возникает вопрос: не приспособился ли наш предок раньше всего дистанционно убивать себе подобного? Не перешли ли к умерщвлению животных много спустя после того, как научились и привыкли умерщвлять своих? Не стала ли позже охота на другие крупные виды уже первой субституцией убийства себе подобных?
Если это предположение правильно, то уже не придётся утверждать, что все следы каннибализма в позднем мустье относятся к чистой некрофагии. Раз здесь возникло умерщвление себе подобных посредством специально для этого видоизмененного камня, значит, теперь этот источник мяса стал играть заметную роль.
В связи с этим перед исследователем возникает множество вопросов, на которые пока нет ответа. Мы можем сказать лишь в общей форме, что этот экологический вариант стал и глубочайшим потрясением судеб семейства троглодитид. В конце концов всё-таки, указанные два инстинкта противоречили друг другу: никого не убивать и при этом в качестве исключения убивать себе подобных. Произошло какое-то удвоение или раздвоение экологии и этологии поздних палеоантропов. Не мог же их прежний образ жизни вполне смениться «войной всех против всех» внутри собственной популяции или вида. Такая тенденция вела бы лишь к самоистреблению и не могла бы решить пищевую проблему: вид, питающийся самим собой, был бы биологическим перпетуум-мобиле. Но всё же такая тенденция, вероятно, настойчиво проявлялась, порождая сложные биологические кризисы, конфликты, срывы. Почему-то умерщвление себе подобных должно было производиться дистантно. Позднемустьерские захоронения мне представляются продуктом наступивших теперь «нервных сшибок»: вполне возможно, что во всей известной серии захоронены как раз особи, убитые своими, но при этом не было допущено съедание трупа. Это какая-то неодолимая обратная или негативная реакция, какое-то наглядное выражение столкновения двух инстинктов. По поводу позднемустьерских захоронений в научной литературе была оживлённая полемика, наиболее очевидным выводом из которой мне представляется тот взгляд, что функция этих захоронений — предотвратить некрофагию (впрочем, может быть, предотвратить пожирание их птицами)[635].
С древнейшими захоронениями подчас связано и другое свидетельство глубочайшего «нервного сдвига» в мире этих поздних палеоантропов: появление вместе с остатками их жизнедеятельности красной охры! Это поистине таинственное мгновение, некая точка отсчёта на пути к психике людей. Пока мы вправе лишь предположить, что охра была связана с нейрофизиологическим явлением интердикции, была необходима для его высшей формы: красная охра — абсолютный и к тому же заочный запрет прикосновения.
Так проступают перед глазами археолога симптомы потрясения, взрыва. Мы не способны проследить одну за другой его дальнейшие ступени. Мы должны сразу говорить о его результате. Выходом из противоречий оказалось лишь расщепление самого вида палеоантропов на два вида. От прежнего вида сравнительно быстро и бурно откололся новый, становившийся экологической противоположностью. Если палеоантропы не убивали никого, кроме подобных себе, то неоантропы представили собой инверсию: по мере превращения в охотников, они не убивали именно палеоантропов. Они сначала отличаются от прочих троглодитов тем, что не убивают этих прочих троглодитов. А много, много позже, «отшнуровавшись» от троглодитов, они уже не только убивали последних, как всяких иных животных, как «нелюдей», но и убивали подобных себе, т. е. неоантропов, всякий раз с мотивом, что те — не вполне люди, скорее ближе к «нелюдям» (преступники, чужаки, иноверцы). Но таков был результат. Каков же был процесс?
Биология различает два механизма отбора, ведущих к видообразованию: естественный и искусственный. Между ними огромное различие, хотя, правда, учение Дарвина о происхождении видов и сложилось на почве обобщения того, что в них есть сходного.
В природе чаще происходит, по терминологии К. М. Завадского[636], синтогенез (в отличие от сегрегациогенеза), т. е. видообразование путём многообразных и сложных межвидовых скрещиваний или гибридизационного процесса с последующим отбором лучших семей. В этом случае видообразование приобретает характер не серии случайных мутаций у одного вида, а своего рода обмена генетическим материалом между членами биоценоза, так что новый вид как бы объединяет генетический материал разных видов. Напротив, при сегрегационном видообразовании решающую роль играет обособление мутационно возникающих рас, изоляция зачатков вида, причём роль изолирующего от скрещиваний фактора играет либо географическое размежевание, либо что-то активно препятствующее скрещиванию даже с близкими формами на месте. Тогда очень быстро новый биологический вариант развивается в особый вид. Когда гибридизирующему скрещиванию препятствует хозяйствующий человек, это называется искусственным и целенаправленным отбором, искусственной сегрегацией (или селекцией). Но нет ли и других, кроме произвола человека, факторов половой изоляции в смешанных популяциях, ведущих к тому же самому результату? Здесь можно представить себе два разных фактора. Как показали этологи, подчас едва выраженные морфологические отличия становятся интенсивным фактором половой изоляции, т. е. делают невозможным скрещивание и тем самым устраняют всякую гибридизацию, которая способствовала бы элиминации и растворению нового признака, напротив, поднимают его на уровень видового отличия. Либо же молодые особи с невыраженным или не достаточно выраженным новым признаком истребляются, уничтожаются, что наперёд устраняет их последующее смешение с другой частью популяции — они не дадут потомства. В обоих случаях разрушаются прежние внутривидовые и внутрипопуляционные отношения и заменяются отношениями антагонизма — если не в общеэкологическом смысле, то в смысле исключения гибридизации.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О начале человеческой истории"
Книги похожие на "О начале человеческой истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Поршнев - О начале человеческой истории"
Отзывы читателей о книге "О начале человеческой истории", комментарии и мнения людей о произведении.