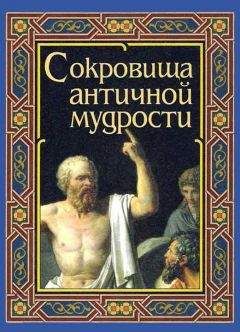Алексей Лосев - Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II"
Описание и краткое содержание "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II" читать бесплатно онлайн.
Последний, итоговой том грандиозного исследования Лосева. Он посвящен двум задачам. Первая: описать последнюю стадию античной мысли, именно ее переход в средневековую, слом античности и формирование совершенно новой эстетики: патристика Востока и Запада и "переходные" "синтетические" формы: халдеизм, герметизм, гностицизм.
Вторая задача восьмого тома - подвести итог вообще всей "эпопее", в этом смысле "Итоги" можно считать чем-то вроде конспекта ИАЭ. Все основные "сюжеты" здесь есть, даются итоговые формулировки, строится целостная картина античной эстетики как таковой, система ее категорий как кратко в ее истории, так и по существу.
Источник электронной публикации: http://psylib.ukrweb.net/books/lose008/index.htm
В отличие от пантеистических взглядов неоплатоников, абсолютная истина имеет для Августина сверхиндивидуальное, сверхчеловеческое значение. Казалось бы, как отмечает Г. Г. Майоров[90], Августин, не приняв неоплатонизма в этом пункте, сознательно и безоговорочно принимает платоновскую концепцию идеального мира, однако платоновский мир идей–эйдосов, имеющий чисто логическое бытие, возносится Платоном не только над всякой жизнью и всяким мышлением, но и, как пишет Г. Майоров,"в определенном смысле и над богом–демиургом"[91]. А с этим, как это абсолютно понятно из нашего анализа переходной эпохи, христианин Августин также никак не мог согласиться.
Чтобы все таки решить вопрос об онтологическом статусе абсолютной истины и чтобы это решение не противоречило его христианским убеждениям, Августин прибегает к частичному синтезу античных идей, сохранявших для него непреодолимую притягательность. В изложении Г. Г. Майорова этот синтез выглядит следующим образом[92]. Соединив платоновскую идею идеального мира с платоновским"энергетическим"подходом к умопостигаемому, когда даже чисто логическое видится конкретным, живым, имеющим место, а для Августина, как мы бы добавили, еще и персоналистичным, Августин осуществляет синтез разума и истины с жизнью. Местом осуществления этого синтеза и является для Августина личность.
Это же личностное начало помогает Августину и при решении вопроса о топосе абсолютной истины. Персоналистическая логика Августина, как ее описывает Г. Г. Майоров[93], такова: хотя объективный разум и не зависит ни от какой индивидуальной души, но все же он существует только как конкретный живой разум. Таким образом, и объективный разум, не зависящий от индивидов, тоже представляет собой для Августина живой и конкретный разум, но уже не разум человека, а разум бога. А так как важнейшим атрибутом бога является неизменяемость, то отсюда происходит и неизменяемость абсолютных истин.
Однако это не было еще окончательным решением вопроса: ведь если абсолютная истина пребывает в разуме Бога, то в силу как будто должен войти традиционный скептицизм. Августину, принципиальному противнику скептицизма, необходимо было решить вопрос о том, каким образом изменчивый, тварный, человеческий ум может познать истины неизменяемого божественного разума. И именно в решении этого вопроса наиболее отчетливо выразился переходный характер гносеологии Августина.
Эта переходность выразилась, в частности, в том, что даже в результате скрупулезного текстуального анализа Г. Г. Майоров не нашел у Августина однозначного ответа на этот вопрос, но выявил два наиболее характерных для Августина способа рассуждения. Согласно первому из них[94], Бог присутствует целиком в душе каждого человека, и вследствие этого в душе человека изначально заложена и объективная истина. Истина, как говорит Августин, обитает во"внутреннем человеке". Нельзя не заметить, что в этом первом способе рассуждения процесс познания, по Августину, оказывается близким к платоновской идее познания как припоминания, да и сам Августин говорит об этом процессе почти в терминах платоновского"Менона"[95]. Однако при всем сходстве и здесь отразился переходный характер гносеологий Августина. Так, Г. Г. Майоров отмечает[96], что идея припоминания, по Августину, не идентична платоновскому анамнезису: по Августину, истина существует в человеческой душе не вследствие предсуществования души, а вследствие аналогии ее внутреннего строения с божественной Троицей; а это и есть христианский элемент в ориентированной на платонизм гносеологии Августина.
Каким же образом, по Августину, происходит процесс познания заложенной в душе человека абсолютной истины? Согласно первому способу его рассуждения, истины, тождественные объективному разуму, сами действуют как свет, изнутри памяти самого человека озаряющий хранимые в ней предметы. Это одна из основных идей Августина – теория иллюминации (озарения). И в этой идее Августина Г. Г. Майоров видит серьезное влияние платонизма, когда говорит, что"августиновский иллюминационизм есть христианская разновидность платонизма"[97], так как в основе этой идеи Августина лежит гипостазирование истин теоретическим наук и вообще идеализированных объектов.
Второй способ рассуждения Августина при ответе на вопрос о том, каким образом преходящий человеческий ум способен познать непреходящие божественные истины, тоже связан с теорией иллюминации. Однако в высказываниях этого рода Августин изменяет местоположение источника света, освещающего в душах людей объективные истины. В первом случае источником света были сами истины, во втором случае источник света – Бог. Так, землю нельзя видеть, если она не освещена светом солнца, говорит Августин[98].
Естественно, что второй способ рассуждения, хотя он значительно слабее, чем первый, представлен в текстах Августина, больше импонировал христианским мыслителям, так как в этой идее сохраняется таинственность божеского существа, а первый вариант рассуждения сближает Бога с геометрическими теоремами и теорией чисел, что, конечно, представляет собой явные отголоски языческих античных идей. Влияние платонизма на Августина выразилось в том, что Августин частично рационализировал христианскую идею Бога, он был в этом отношении даже большим рационалистом, чем неоплатоники, так как для последних сверхъединое было непознаваемым, а для Августина Бог был конечной целью познания. Таким образом, гносеология Августина представляет собой сложный конгломерат античного рационализма и христианского персонализма.
Такие сложные и неоднозначные отношения между Августином и античностью Г. Г. Майоров иллюстрирует практически на всех элементах философской системы Августина. Так, заимствовав у Плотина идею о бытии как о бытии неизменяемом, самотождественном и вечном, постигаемом только умом, Августин вместе с тем, как показывает Г. Г. Майоров[99], расходится с Плотином в вопросе о первоначале. Если для Плотина единое стоит над бытием, то для Августина первоначало и есть истинное бытие, тождественное Богу.
Так, при всей своей зависимости от Плотина в вопросе о космосе, Августин рассматривает космос не как последнюю ступень эманации единого, ослабленный свет которого в космосе почти полностью поглощен тьмой материи. Наоборот, Августин рассматривает космос как творение Бога; неотъемлемыми свойствами такого космоса являются красота, порядок и единство[100].
В своих воззрениях на антропологию Августин опирался на неоплатонические идеи о непространственности и бессмертии души, о ее естественной симпатии к своему телу и т. д. Но наряду с этим Августин категорически отвергает характерное для неоплатонизма положение о том, что для души тело человеческое есть оковы и гробница, так как, по Августину, первозданное, догреховное тело с необычайной легкостью отдает себя в подчинение духа. Августин реабилитирует человеческую плоть[101].
В области этики, как пишет Г. Г. Майоров[102], Августин безоговорочно соглашается с неоплатонизмом в двух пунктах: в учении о метафизической основе добра и зла и в учении о высшем блаженстве как единении с Богом. Но Августин резко расходится с неоплатонизмом в понимании человеческого счастья: для неоплатоников счастье было результатом последовательного самораскрытия человеческой природы, а для Августина счастье – это дар иррациональной благодати. К анализу оригинальных этических воззрений Августина, связанных с проблемой соотношения человеческой воли и божественного провидения, мы вернемся при рассмотрении следующей работы об Августине, специально посвященной этой теме. Здесь же скажем еще несколько слов о книге Г. Г. Майорова в целом.
Следует признать достойным всяческого поощрения стремление Г. Г. Майорова диалектически подходить к вопросу о взаимоотношении античности и Августина, что дает возможность рассматривать явление переходности не как механическое соединение элементов сопоставляемых эпох, а как гармоничное целое, имеющее самостоятельную историческую значимость. Отмечая несомненные заимствования и соответствия, Г. Г. Майоров обстоятельно выявляет и принципиальные различия между античными теориями и Августином, что позволяет ему выпукло и ярко осветить особенности воззрений Августина как одной из наиболее значительных фигур переходного периода или, как пишет сам Г. Г. Майоров[103], как"образца"той философии, в недрах которой зарождалась новая эпоха – средневековье.
в) А. А. Столяров в своей диссертации об Августине[104] тоже касается целого ряда весьма глубоких и внушительных историко–философских проблем, без которых невозможно представлять себе сущность изучаемого нами переходного антично–средневекового периода.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II"
Книги похожие на "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Лосев - Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II"
Отзывы читателей о книге "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II", комментарии и мнения людей о произведении.