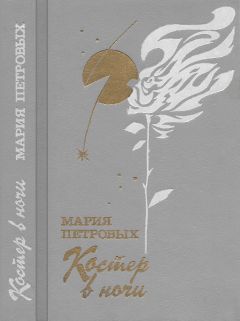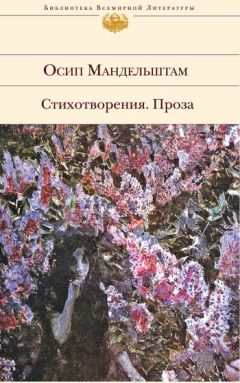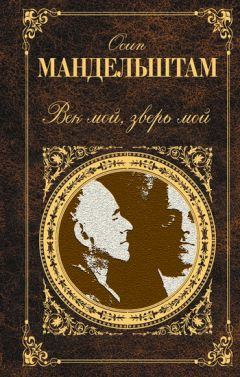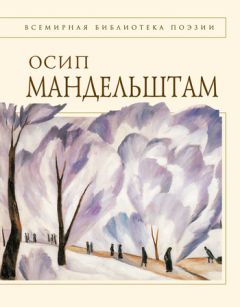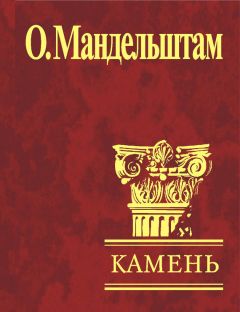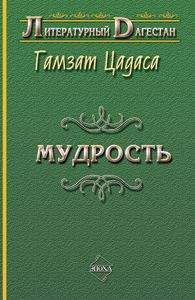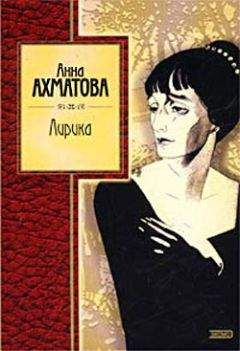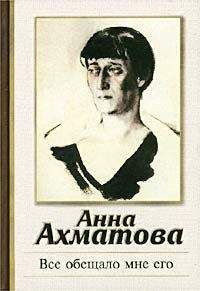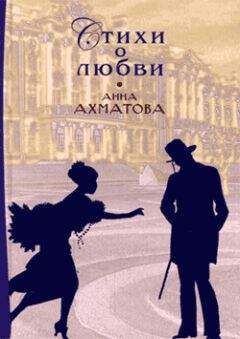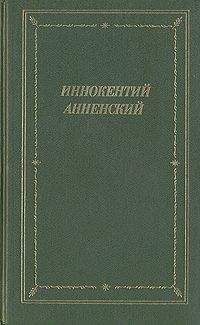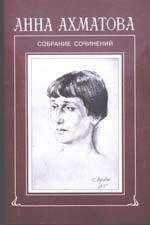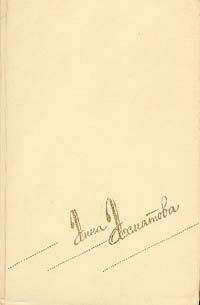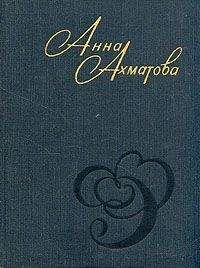Мария Петровых - Стихи
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Стихи"
Описание и краткое содержание "Стихи" читать бесплатно онлайн.
ПЕТРОВЫХ, МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (1908–1979) — поэт, переводчик.
Родилась 13 (26) марта в Норском Посаде под Ярославлем. Первые стихи написала в 6 лет. Впоследствии отозвалась о своем раннем опыте: «Я восприняла это как чудо, и с тех пор все началось, и мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось». С 15 лет посещала собрания Союза поэтов в Ярославле. Окончила Высшие литературные курсы в Москве (одновременно с А.Тарковским). Поэзию М.Петровых высоко ценили А.Ахматова, О.Мандельштам, Б.Пастернак. О стихотворении Назначь мне свиданье на этом свете А.Ахматова отзывалась как о «шедевре лирики последних лет», «врожденный поэтический голос» отмечал у М.Петровых А.Тарковский. О.Мандельштам посвятил М.Петровых стихотворение Мастерица виноватых взоров. При жизни Петровых вышла единственная книга — Дальнее дерево (Ереван, 1968), изданная при участии армянского поэта Левона Мкртчяна. М.Петровых — мастер поэтического перевода. В ее переводах публиковалась еврейская, болгарская, литовская, польская поэзия. Но наиболее значительным трудом Петровых-переводчика стали переводы армянской поэзии: драматическая поэма Н.Зарьяна Ара Прекрасный, стихотворения С.Купутикян, М.Маркарян, Г.Сарьяна, О.Туманяна. Под редакцией Петровых в Ереване была выпущена книга Армянская классическая лирика, Книга скорби поэта-монаха Г.Нарекаци. В 1979, незадолго до смерти, М.Петровых получила премию Союза Писателей Армении имени Е.Чаренца. Совместно с Д.Самойловым, В.Звягинцевой вела семинар молодых переводчиков.
В собственном творчестве М.Петровых выделяла три периода, в которые наиболее интенсивно писала стихи: начало 20–30-х годов (юношеские стихи), конец 30-х — начало 40-х (предвоенная и военная лирика), конец 60-х — начало 70-х годов. Создавая стихи периодами, Петровых мучительно переживала поэтическое молчание, что отразилось в частом обращении к теме «жестокого молчания», мук творчества. Молодым поэтам Петровых советовала «домолчаться до стихов»: Одно мне хочется сказать поэтам: / Умейте домолчаться до стихов. / Не пишется? Подумайте об этом, / Без оправданий, без обиняков, / Не дознаваясь до жестокой сути, / Жестокого молчанья своего, / О прямодушии не позабудьте, / И главное — не бойтесь ничего (Одно мне хочется сказать поэтам…). Размышления о рождении слова из хаоса, отчаяния, погружения во тьму отразились в стихотворениях В минуту отчаянья, Пустыня — замело следы….
«Ни цветаевской ярости, ни ахматовской кротости», — характеризовала свой поэтический путь М.Петровых. Поэзия Петровых лишена страстного напора, лирической безмерности, свойственной творчеству Цветаевой, — в то же время она не склоняется к намеренно приглушенной, державно-величественной интонации Ахматовой. Петровых вырабатывает собственную манеру, в которой тематическая скудость сочетается с предельной точностью, графическим изяществом поэтического рисунка. В литературе Петровых прежде всего ценила лаконизм, отточенность формы, верность слова: «Дорожу в литературе лаконизмом, гармонией, скрытым огнем».
Поэзия Петровых обращена к тайнам душевной жизни, ее многообразным регистрам. Основные мотивы ее лирики — путь души, поиск правды, неминуемость судьбы, «злая невзгода», выпавшая на долю предвоенного и военного поколения. Уже в ранних стихах Петровых предчувствует особость своей судьбы, невозможность «пройти наизусть»: Жизнь моя, где же наша дорога? / Ты не из тех, что идут наизусть. В диалог с жизнью, с судьбой вплетается признание творческой муки сладчайшей отрадой жизни (Стихов ты хочешь. Вот тебе). Среди стихотворений 20–30-х годов много обращений к дочери, проникнутых нежностью и теплотой женственности. В начале 30-х годов Петровых посещает дачу М.Волошина в Коктебеле, с благодарностью воспевая коктебельское раздолье в стихотворениях Мне вспоминается Бахчисарай, Нет, не поеду я туда. В поэме Карадаг Коктебель предстает краем вдохновения и покоя, «пленительной землей», «адораем» — смешением ада и рая, сохранившим отпечатки древней борьбы стихий.
Поэзия 30–40-х годов выразила боль трагедии: сталинский террор, потери военного времени. В 1937, сразу после рождения дочери, был репрессирован и приговорен к 5 годам лагерей муж Петровых библиограф и музыкант В.Д.Гловачев, в 1942 он скончается в лагере. Петровых пишет о 30-х годах как о времени «безвинной неволи», называет тюрьму «проклятьем родины», затмевающим ужасы сумасшедших домов и стихийных бедствий (Есть много страшного на свете…). Вместе с тем, стихотворения Петровых этого периода вынесены за скобки времени: о сталинских лагерях поэт говорит как о неволе вообще, война с фашистской Германией предстает в обобщенном образе «злого бедствия», пронзающего болью человеческое сердце. За подобной отвлеченностью — не только жестокая необходимость умолчания, но и библейская обобщенность, всечеловечность описанной трагедии. Среди стихотворений Петровых военных лет наиболее известны: Севастополь 42, Чистополь, Я думала, что ненависть — огонь, Проснешься ли, уснешь — война, война…, Апрель 42. Война в определении Петровых — «тоска, тоска», «спутник угрюмый», «проклятье». Мысли об «осиротевших берегах» родины, опустошении, произведенном войной, сопровождаются неотвязной болью, душевными муками. Не давая изображения кровавых сражений, жестокостей войны, Петровых передает внутреннее страдание, «злую боль» лишений и потерь. В годы войны Петровых оказалась в эвакуации в Чистополе, где ее соседом и близким другом стал Б.Пастернак. В восприятии Петровых, как и в восприятии многих ее современников, в том числе Б.Пастернака, война — еще и очистительный период, «освобождающая война», с которой связаны не только страдания, но и надежды на возрождение России. «Это было трагическое и замечательное время. Это было время необычайной душевной сплоченности и единства. Все разделяющее исчезло. Это было время глубокого внимания друг к другу», — свидетельствовала М.Петровых в записных книжках. Одухотворенная надеждой печаль — таково основное настроение лирики Петровых военных лет.
Метафоры Петровых точно и тонко передают душевные движения, неожиданно и глубоко раскрывают такие понятия, как судьба, ненависть, ложь, правда… Так в стихотворении Дальнее дерево, говоря о смятении, душевной смуте, поэт использует образ сходящего с ума, дрожащего в безветренную погоду дерева. Тема неминуемой судьбы, неизбежности участи блистательно выражена в почти афористичном по форме стихотворении 1943 Говорят, от судьбы не уйдешь…, в котором преобразуется расхожий поэтический сюжет единственности дороги, ведущей к судьбе: у Петровых к судьбе ведет не одна, а все дороги. Не менее сложным предстает в поэзии Петровых такое понятие как ненависть: Я думала, что ненависть — огонь, / Сухое быстродышащее пламя / И что помчит меня безумный конь / Почти летя, почти под облаками, / Но ненависть — пустыня… (Я думала, что ненависть — огонь…).
В 60–70-е годы Петровых переживает взлет поэтического дарования. Ее поэзия обращена к трагической судьбе одаренной личности, роковым минутам отечества, горечи потерь. Много стихотворений этого периода посвящено А.Ахматовой, Б.Пастернаку, О.Мандельштаму (День изо дня, из года в год… Ахматовой и Пастернака…). В начале 60-х годов Петровых пишет стихотворение Плач китежанки, в котором оплакивает гибель «ненаглядного Китежа» в годину «злых невзгод». Вслед за А.Ахматовой, оплакавшей безвременный уход современников, Петровых скорбит о гибели истинной России в мутных водах кромешного времени и, в то же время, поет чистоту, неподвластность «златоглавого Китежа» злым силам, азиатскому мороку насилия и деспотизма.
Талант Петровых проявился в оживлении, обогащении элементарных категорий душевной жизни: ненависть, нежность, правда… Поэзия Петровых, тематически небогатая, лишенная изощренности, возвращала к библейской простоте понятий, усложненных, а то и вовсе сброшенных со счетов культурой Серебряного века. В лирике Петровых обновилась выразительность многих образов: стихии — «влюбленные в человека силы», ненависть — пустыня, поэт — затворник «неприютной норы», в которой лишь «корма и вода, и созвездий полночное чудо». А.Тарковский называл тайной поэзии Петровых тайну «обогащенного слова»: «На первый взгляд, язык поэзии Марии Петровых — обычный литературный русский язык. Делает его чудом в ряду большой нашей поэзии способность к особому словосочетанию, свободному от чьих бы то ни было влияний. У нее слова загораются одно от другого, соседнего, и свету их нет конца».
В стихотворении 1958 Петровых писала о «сложной правде» и «простой лжи»: Какая во лжи простота / Как с нею легко / А правда совсем не проста / Она далеко. Принцип «сложной правды» в полной мере реализуется в поэзии Петровых, насыщающей интенсивным смыслом обиходные понятия.
Умерла М. Петровых 1 июля 1979 в Москве.
Юлиан Тувим
(1894–1953)
НУ, А ЕСЛИ НЕТ?
Ну, а если нет? Если это бред?..
Мучусь грезой безрассудной,
Призываю образ чудный,
Жажду угадать ответ,
Ибо если нет,
Тогда… трудно!
Ну, а если да? Если будет так?..
Вспыхнут зори в жгучей дрожи,
Разгорится день погожий,
Как багряный мак,
Ибо если так,
Тогда… — Боже!!
ЛИРИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ
Я приходил с визитом
К той гордой, беспощадной
И что-то бестолково
Твердил… (О, бред больного!)
Терзал тебя стихами,
Ломал, корежил слово,
И разгрызал зубами
(Мне лишь бы не заплакать!),
И кровяную мякоть
Давал тебе, давясь слезами:
«Глянь!»
Я приходил с визитом
К той скрытной, непонятной
И снова бредил, снова
Губами и плечами…
(О, гром тирады этой,
Тиранской и терновой!)
Внимали ей сурово
Священные предметы:
Недрогнувшие стены,
Нетронутое ложе,
Не раздробленный кулаками
Стол.
Теперь с печалью скрытой
Сижу я одиноко,
Задумавшись глубоко,
На сотни дней разбитый,
И все мои визиты,
Все до единой раны,
В клубок безумный свиты.
А я уже счастливый,
Любимый и желанный,
А я уже далекий, пьяный
Муж.
КВАРТИРА
Тут все не наяву:
И те цветы, что я зову живыми,
И вещи, что зову моими,
И комнаты, в которых я живу,
Тут все не наяву,
И я хожу шагами не моими, —
Я не ступаю, а сквозь сон плыву.
Из бесконечности волною пенной
Меня сюда забросил океан.
Едва прилягу на диван —
Поток минувшего умчит меня мгновенно.
Засну — и окажусь на дне.
Проснусь — и сквозь редеющий туман
Из темных снов доносится ко мне
Извечный, грозный гул вселенной.
ГИМН ЛЕСУ
В лесной столице шумят знамена, —
Праздник веселый.
Шумят флажки в столице зеленой,
Бушуют смолы.
Ветер-трубач пронесся с песней,
Взъерошив тучи.
Гроза проследовала в поднебесье
За солнцем жгучим.
Над дубом — вспышка молнии синей
И гром тяжелый,
А в толще дерева, в сердцевине,
Бушуют смолы.
В моих земляках, в народе зеленом, —
Мощные соки.
Гремите славу корням и кронам,
Презревшим сроки!
Лунная зелень в столице этой
Высокостволой.
Обрушился гром и замер где-то…
Бушуют смолы.
РАЗГОВОР ПТИЦ
Кто, опричь меня, знаком
С птичьим языком?..
Чуть трепещут камыши,
Чуть мерещится в тиши —
«Вью, вью, вью» и «вьет, вьет, вьет»,
Значит, скоро рассветет,
Вспыхнет зорька в зябкой дрожи…
Так про что это, про что же?
Про что?
Разумеется, про то.
«Цвири-цвири», слышь-послышь…
Тишь.
Ну так что же? Да иль нет?..
Лишь роса блестит в ответ,
Влажны листья диких роз,
Кто-то где-то произнес:
«Тью-тью-тью, тю-и, тю-и» —
Да, да, да, молчи, таи.
Это значит: чуешь, чу?
Чую, знаю и молчу.
Да, да, да, я знаю тоже…
Так про что это, про что же?
Про что?
Вот про самое про то.
«Цвир, тю-и, ку-ку»… Кто знает,
Может быть, уже светает?..
То не нота и не тон —
Что-то из лесных сторон.
Тишиной навеян шорох, —
Чей он, чей он, чей он — шорох?
Листьев? Тростника? Осоки?
То ль колосьев шум далекий?
Да иль нет?.. Но я-то знаю
И мечтаю, напеваю.
«Цвир, цвир, цвир» — звенит не зря,
Разгорается заря,
Пташка пташку окликает…
Ну а все-таки… Кто знает?!
Что ты! Солнышко встает:
Птица ль птицу не поймет,
Мне ли песенки звенящей
Не понять в росистой чаще, —
«Тью-фюить» — кругом пошло.
Это значит — рассвело.
ОТЕЦ
Когда-то я молил Творца,
Чтоб век твой был вовек не прожит, —
Я все улажу, все устрою
Для старости твоей счастливой.
А нынче сын одно лишь может —
Вздохнуть беспомощно порою
И фотографию отца
Поправить, коль висит чуть криво.
Владислав Броневский
(1897–1962)
ЛИСТОПАДЫ
Всю-то жизнь срывался я и падал, —
ветер с привязи в груди моей рвется,
удержать меня лишь листопадам
в черных пальцах ветвей удается.
Я тревогою шумной упился, —
тайным ядом поила щедро,
оттого и петь я разучился
и кричу лишь криками ветра.
Оттого по улицам черным
ввечеру брожу поневоле —
влажный тротуар ведет упорно
в сумрак влажный, что насытит болью.
Губы жжет ацетиленом слово,
лютой лихорадки не избуду, —
грозной летаргией околдован,
изгнанный тревогой отовсюду.
Нет исхода, нет исхода, нет исхода.
Дольше, дальше мне идти в вечерней хмури.
Я — кружащий ветер непогоды,
я — листок, что затерялся в буре.
Вижу лишь туман перед собою,
и глаза болят, и сердце бьется чаще.
Точно спирта пламя голубое,
ты горишь во мне, мое несчастье.
Дольше, дальше мне тащить страданье,
вечер в сумрак за волосы тянет,
и слова летят со мною вне сознанья, —
призраки мои туман вечерний манит.
Всю-то жизнь срывался я и падал, —
вихрь на привязи в грудной метался клетке,
а ноябрьский вечер счастье прятал
в нагие ветки.
Сквозь меня летит в круженье, в свисте
листопад минут — мое былое…
Это — лишь осенние листья.
Это — пахнет землею.
ТРАВЫ
До утра — бессонницы сквозные,
ночь над сердцем — крышкой гробовой…
Пахнут кладбищем думы ночные,
чабрецом и полынь-травой.
Я срываю сорные растенья,
дорогие мне тем, что просты,
и от слов моих над городом тени
вырастают, как черные цветы.
Говорят они, что радость отблистала,
как рассветная роса на земле,
что склоняюсь головой усталой,
словно солнце в кровавой мгле…
Я спокойно иду на запад
в пустоте померкшего дня.
Горьких трав кладбищенский запах
из минувшего овеял меня.
Слышу я, как на тонком стебле
колокольчик звенит струной,
и зловещая тень, колеблясь,
наклоняется надо мной.
Над закатным пепелищем туча
распласталась, точно лист лопуха.
В дудочку будыльника тягуче
свищет вихрь, но тишина глуха.
Кровь заката багрянеет, будто
гроздь рябины сквозь темную синь.
В сердце расцветает цикута,
горечь губ мне осушит полынь.
А шиповник веткою терновой
врос в меня, чтоб я уйти не мог,
оттого исходит кровью слово,
молодость болит, и сон далек.
О, как травы пахнут щемяще,
как протяжно пустота гудит!
Черный ангел, крыльями шумящий, —
надо мной бессонница летит.
Сердцу страшно в полночи могильной
помнить все и позабыть о сне…
Эти строки я писал насильно,
эти строки — только обо мне.
О РАДОСТИ
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Стихи"
Книги похожие на "Стихи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Петровых - Стихи"
Отзывы читателей о книге "Стихи", комментарии и мнения людей о произведении.