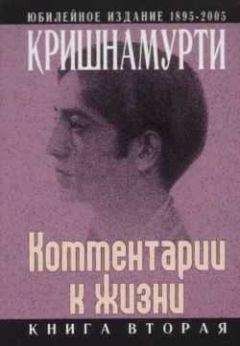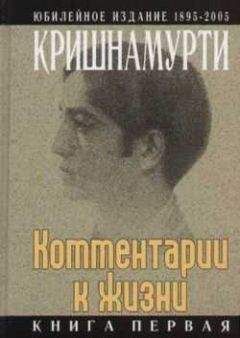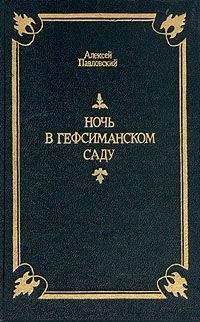Алексей Лосев - Античный космос и современная наука

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Античный космос и современная наука"
Описание и краткое содержание "Античный космос и современная наука" читать бесплатно онлайн.
А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"
Исходник электронной версии:
А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой).
[Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету]
с) Теперь мы подошли вплотную к решению занимавшего нас вопроса об общем и единичном. Единичное есть данная, эмпирическая вещь; общее есть ее эйдос. Однако уже тут становится ясной недосказанность только что данного определения общности. Вспомним: Аристотель отличал— 1) чисто отвлеченный смысл, 2) единичную вещь как факт и 3) среднее между ними — явленный, выраженный смысл. Куда отнести теперь наше определение общности? Что оно не относится ко второй категории, это ясно с самого начала. Но относится ли оно к первой или третьей — это совсем не ясно, и необходимо этот вопрос сейчас разрешить, так как апория общего и единичного как раз и разрешена Аристотелем на почве этой проблемы.
Разумеется, поскольку первое, отвлеченный смысл, есть эйдос, общность свойственна и ему. Другими словами, он и есть эта общность. С другой стороны, поскольку в чтойности нет ничего, кроме эйдоса, общность присуща и ей или, по крайней мере, содержится в ней в той или иной модификации. Однако если мы усвоим все фундаментальное различие отвлеченного эйдоса и конкретной чтойности, то сразу же бросается нам в глаза и различие двух общностей, находимых нами там и здесь. Тут мы подошли к основным понятиям аристотелизма — к понятиям потенции и энергии, без ясного понимания которых нельзя тут решить ни одной проблемы, и в частности апории общего и единичного.
d) Вот как Аристотель разрешает эту апорию, привлекая понятия потенции и энергии. Этому посвящены рассуждения в Metaph. XIII 10.
«Именно, если не утверждать существования сущностей в отделении [от вещей], т. е. [не утверждать их] таким путем, как [это] говорится относительно единичного, то уничтожится, как мы пытаемся говорить, и [сама] сущность. Но если утвердить отделенные [от вещей и самостоятельные] сущности, то как можно было бы [тогда утверждать существование] элементов и принципов, [если сущности — вне того, чего они сущности]? — В самом деле, если [сказать, что они] — единичное и не–общее, то сущее [тогда] будет существовать, поскольку оно есть элементы, и притом непознаваемые элементы, [поскольку смысл их мыслится вне их]. Например, пусть имеются, с одной стороны, слоги языка в качестве сущностей, с другой — их элементы в качестве элементов сущностей, [т. е., кроме самих звуков, пусть не будет мыслиться никаких сущностей звуков]. Тогда необходимо, чтобы слог ba был одним и каждый слог был одним, поскольку они ведь не есть общее и поскольку самотождественны они [только] по эйдосу, но каждый нумерически один и есть [определенная] этость, и не по имени только [один и этость]. Далее, каждый [слог], как он есть [сам по себе], утверждают в качестве [именно] одного, [а не чего–то общего]. Но [если это имеет значение относительно] слогов, то [это относится] также и к тому, из чего они состоят. Следовательно, не будет [звук] «а» больше одного, [и не будет больше одного] ни один элемент из прочих по той же самой причине, как и тот же самый слог из прочих [не будет] другим и другим. Но если так, то, разумеется, рядом с элементами [уже] не будет ничего иного, но [будут] только элементы. Кроме того, [эти] элементы не будут предметом знания, ибо они не есть общее, а знание относится [как раз] к общему. Это ясно как из доказательств, так и из определений, потому что не получается силлогистического вывода, что сумма углов этого треугольника равняется двум прямым, если не всякий треугольник [вообще] равняется двум прямым, или что вот этот человек есть живое существо, если не всякий человек — живое существо.
Напротив того, если принципы есть действительно общее, или и сущности, [возникающие] из этих принципов, суть общее, то не–сущность (μή ουσία), [т. е. в данном случае общее], окажется [по смыслу] раньше сущности, так как общее не есть сущность, а элемент и принцип [были признаны в качестве] общего, так что элемент и принцип — раньше того, элементом и принципом чего они являются. — Все эти выводы, очевидно, оказываются правомерными всякий раз, когда идеи заставляют происходить из элементов и наряду с сущностями, содержащими в себе само–тождественный эйдос, и идеями допускают существование некоего одного в существовании отдельном [от вещей]. [Прим. А. Л.: Неясность этого места весьма удлинила бы мой комментарий к нему. Поэтому я просто сошлюсь на соображения, высказанные по этому поводу у Боница (Аг. М., 568), хотя затрудняется и он. Эта глава вообще отличается неясными фразами]. Если же представляется возможным, напр., чтобы в элементах звука были многие а и bt чтобы кроме [этого] множества [уже] не было бы никаких α–в–себе или fr–в–себе, то именно в силу этого получаются бесконечные [по числу, друг другу] подобные слоги. Но из всего сказанного наибольшей апорией является то, что всякое знание [относится как раз к] общему, почему и необходимо и принципам сущего быть общими и [в то же время] не быть отдельными [от вещей] сущностями, между тем как это положение в одном отношении [должно считаться] истинным, в другом же — неистинным.
А именно, знание, равно как и познавание (τό έπίστασθαι), — двоякого рода: одно — потенциальное (το δυνάμει), другое — энергийное (τό ενεργείς). Потенция, будучи в качестве материи общим и неопределенным, относится к общему и неопределенному; энергия же, будучи определенной и [энергией определенного], есть этость и относится к этости. Однако [и] в акциденциальном смысле зрение видит краску вообще (καθόλου), потому что эта вот видимая им краска есть краска [вообще], и то, что видит грамматик, эта вот альфа, есть альфа [вообще]. Поэтому если принципы должны быть общими, то и [зависимое] от них, [хотя бы и данное в чувственном], должно быть общим, как это имеет место и в доказательствах. А если так, то — и не будет ничего отдельного от вещей, и не будет никакой [только единичной] субстанции, но ясно, что знание в одном отношении относится к общему, в другом — не относится» (Met. XIII 10, 1086b 16—1087а 25).
Всякий, прочитавший эту главу, сразу чувствует, что тут Аристотель коснулся чрезвычайно важного вопроса, от разрешения которого зависит судьба всей его системы. Аристотель не только ставит апорию общего и единичного, но, как видим, вполне определенно ее решает, сводя ее на проблему потенции и энергии. Подлинный смысл этого решения может стать для нас ясным только в связи с учением об энергии и потенции. Ясно без этого только то, что общее есть потенция, а энергия есть единичное. Общее так относится к единичному, как потенция к энергии. Общее так объединяется с единичным, как потенция объединяется с энергией. Вещи как факты — единичны, но как предметы знания они — общи. Нет ничего, кроме отдельных вещей, энергийно данных; но и нет никакого знания без направленности на потенциально данное общее. Следовательно, еще одно усилие мысли с нашей стороны, именно усвоение понятий потенции и энергии, и — мы получаем решение нашей проблемы и вместе с тем последнюю характеристику изучаемой нами проблемы чтойности.
Но проблема потенции и энергии у Аристотеля затрагивается нами в примечании 87. Там мы поставляем в связь эту проблему с проблемой выражения. Именно, потенция и есть не что иное, как принцип перехода смысла в свое выражение, — тот «закон» и «метод», та «чистая возможность», которую напрасно неокантианцы напяливали на платоно–аристотелевский «эйдос» и которая соответствует именно «потенции». Энергия же, видели мы в прим. 87, есть осуществленная возможность и конкретно–индиви–дуализируемый метод. То и другое относится, кроме того, к сфере отождествления логического и алогического, так что тут — отношения не «рода» и «вида», но вся проблема общности получает характер картинно данного и рельефно изваянного смысла. Чтойность есть общее — данное, однако, как некая образная и воззрительно–картинная и в то же время не чувственная, но умная этость и индивидуальность.
Имея в виду изложенное в прим. 87 учение о потенции и энергии и делая общую сводку всего произведенного нами анализа аристотелевских текстов о чтойности, мы можем сказать так.
Чтойность есть 1) умно–созерцаемая (θεωρεΐσθαι) 2) индивидуальная (καθ’ έκαστον) 3) общность (καθ’ δλου), ставшая, отсюда, этостью (τόδε τι) 4) тождества логического и алогического (άχώριστόν), данная как 5) энергийно (ενεργείς) 6) целостное (δλον) выявление 7) потенциально сущего (δυνάμει) 8) смысла (λόγος) 9) субстанциальности (καθ’ αυτό).
10. Литература. Если не впадать в крайность, которой страдает великолепное изложение Аристотелевой системы у Fr. Brentano, сведшего последнюю в очерке «Aristoteles» (Grosse Denker, hrsgb. v.E.v. Aster. Lpz., [1911] I 153—207) почти только к теодицее, оберегая себя также и от того, чтобы отрицать вместе с B5hm (Die Gottesidee bei Aristoteles. Diss. Strassb., 1914) большое религиозное значение за Аристотелевой идеей перводвигате–ля; и если, кроме того, рассматривать аристотелизм все же как некую Begriffsphilosophie, принимая данную у Fr. Biese (Die Philos, d. Aristoteles. Berl., 1835, 1 616—631) хорошую сводку всех положительных взглядов Аристотеля на диалектику, по которым не только «die Auffasungsweise des Gegebenen erleich–tert, und die Erkenntniss der Prinzipien vorbereitet werden soil» (618—619), но она имеет целью — «den Prinzipien, welche sich der hôheren Vernunftbetrachtung als wahr ergeben, Anerkennung zu verschaffen» (619), — хотя, по тому же Бизе, и «Satz des Widerspruchs» (619, ср. 631—642), и ее экзетастически–пейра–стический и эленктический характер (621—622), и сведение ее положительного содержания, в сущности, на эпагогику и силлогистику (622—625) лишают ее характера подлинной диалектики, так что вместе с Бизе можно сказать, что „die äussere Ref le–xionsbestimmungen des verständigen Denkens“, которое Аристотель имеет в виду в диалектике, „sind… nicht ein Letztes fur das Wissen, sondern nur ein notwendiger Durchgangspunkt zu der hôheren, spekulativen Vernunftbetrachtung“ //философию категорий… должно быть облегчено усвоение данных и проведена подготовка к познанию принципов… обеспечить признание принципам, представляющимся высшему умозрению истинными… проти¬воречивое высказывание… внешне рефлексивные схемы рассудочного мышления… не являются последней инстанцией познания, но лишь необ¬ходимым переходным моментом к высшему, спекулятивному умозре¬нию (нем.).// (626); — и если, наконец, идти за Op. Новицким (Постеп. развит, древн. философ, уч. Киев, 1860. III.), который дает хорошее изложение и критику Аристотеля, на редкость отчетливо представляя себе основной недостаток системы Аристотеля и думая, что «надлежало оба этих начала, материю и форму, не только предположить, но и вывестьу надлежало показать, что выявление есть самая же идея, что сама форма производит материю» (III 148), — причем он не хочет видеть у Аристотеля только одно отождествление формы и материи, как то обычно видят, но вскрывает наличие тут и тождества и различия, не находя тут синтеза, а находя, подобно нам, только описание (что, в конце концов, конечно, не может не вести к дуализму, 149); — то, поскольку уже Гегель с замечательной отчетливостью видел, что „bei Aristoteles heisst also Dynamis gar nicht Kraft (Kraft ist vielmehr eine unvollkommene Gestalt der Form), sondern mehr Vermogen, auch nicht unbestim–mte Môglichkeit; Energeia aber ist die reine Wirksamkeit aus sich selbst" TVorles. iib. d. Gesch. d. Philos. Berl., 1842, II 285), так что „die Thätigkeit bei Aristoteles ist also zwar auch Veranderung, aber innerhalb des Allgemeinen gesetzte sich selbst gleich bleibende Veranderung: mithin ein Bestimmen, welches Sichselbstbestimmen, und daher der sich realisirende allgemeine Zweck ist; in der blossen Veranderung ist dagegen das Erhalten seiner in der Veranderung noch nicht erhalten"”//У Аристотеля, следовательно, «дюнамис» вовсе не означает силы (сила есть скорее несовершенный образ формы), не означает также не¬определенной возможности, а скорее способность; «энергия» же есть чистая деятельность из самой себя… таким образом, деятельность у Ари¬стотеля есть, правда, также изменение, но изменение, положенное в пре¬делах всеобщего, остающееся равным самому себе; она, следовательно, есть такой процесс определения, который представляет собою процесс самоопределения и поэтому есть реализующая себя всеобщая цель. В голом же изменении, напротив, еще не содержится сохранения себя в изменении (нем.; пер. Б. Г. Столпнера).// (287) и поскольку у Аристотеля и форма и материя суть трансцендентальные принципы (ср. Н. Lambridis. Die Erkenntnissprinzipien bei Aristoteles. Diss. Lpz., 1919), — не может быть и речи теперь о тех противоречиях, которые находил у Аристотеля Е. Zeller (Philos, d. Gr. II 2 , 309—313), считавший, что в проблеме взаимоотношения общего и частного у Аристотеля надо „nicht bloss eine Lucke, sondern einen hochst eingreifenden Widerspruch im System des Philosophen anzuerken–nen“ // признать наличие не просто пробела, но чрезвычайно резкого противоречия в системе философии (нем.).// (312), чему я противопоставил бы энергичное подчеркивание тождества формы и материи хотя бы у С. Piat (Aristote, Paris, 1903, 40): „ceux deux principes sont tellement solidaire ľun de ľautre que rien ne les saurait séparer“ (41: «Поэтому, каждая субстанция абсолютно одна в своей двойственности; делить ее — значит уничтожать»), и — у G. Kafka (Aristoteles. Miinch., 1922, 53— 55), полагающего, что неподвижное движение перводвигателя есть contradictio in adjecto // противоречие в определении (лат.).//, подобно взглядам Reiche (Das Problem d. Unendlichen bei Aristoteles. Diss. Bresl., 1911), думающего, что потенциальность бесконечного непонятна на основе проблемы актуальности, хотя и вразрез с W. D. Ross, по которому (Aristoteles, Lond., 1923, 167) интелли¬гибельная материя у Аристотеля есть „spatial extension“, а приро¬да только „innate impulse to movement“ (67), так что и привле¬чение проблемы „artefacta“//пространственное протяжение… внутреннее побуждение к дви¬жению… искусственные создания (англ.).// (167—173) ничего не привносит в структуральную предметность чтойности. Общее и частное, единичное, равно как и форма, и материя, или энергия и потен¬ция, движение и покой, — все эти пары понятий занимают в си¬стеме Аристотеля чрезвычайно четкое место, хотя для понимания этого и необходимо отказаться от современных психологистичес–ки–метафизических предрассудков.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Античный космос и современная наука"
Книги похожие на "Античный космос и современная наука" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Лосев - Античный космос и современная наука"
Отзывы читателей о книге "Античный космос и современная наука", комментарии и мнения людей о произведении.