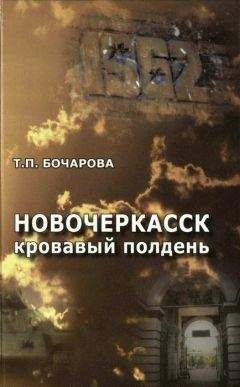Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Описание и краткое содержание "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать бесплатно онлайн.
Философия нигилизма по отношению к советской эпохе в свою очередь не прошла испытание временем, выступив лишь в качестве идеологического сопровождения кризисных процессов в обществе. Актуальность опыта КПСС не исчезла с поражением коммунистической доктрины. Обращение к истории периода советского коммунизма говорит о том, что для него были присущи те же традиционные противоречия, которые изначально определили феномен российской цивилизации и ее устойчивое своеобразие. Книга содержит конструктивную критику политической истории большевистского периода. Проводится анализ исторических оснований системы советского коммунизма и ее связи с современными проблемами государственного строительства.
Для всех интересующихся историей России начала XX века.
На умиротворение масс была рассчитана и череда амнистий в отношении тех представителей социальных низов, которые в разное время принимали участие в борьбе против большевиков. В беспокойной Сибири, где политическое положение вызывало наибольшую тревогу властей, Сиббюро ЦК к 1 мая 1921 года постановило амнистировать некоторые группы рабочих и крестьян, принимавших участие в контрреволюционном перевороте 1918 года и затем в антисоветской борьбе на стороне Колчака[283]. К 4-й годовщине Октября Президиум ВЦИК принял постановление об общей амнистии всех бывших солдат белых армий, воевавших против Советской власти. В то же время, по инициативе петроградского губкома, началось амнистирование и освобождение недавних кронштадтских мятежников, приговоренных к принудительным работам в Петроградской, Вологодской, Архангельской и Мурманской губерниях. 14 ноября 1921 года председатель петрогубчека С.А.Мессинг докладывал Уншлихту о том, что на днях освобождаются кронмятежники, находящиеся в Петрограде, а также разослана телеграмма в Вологду и Архангельск с распоряжением об освобождении мятежников, препровожденных при списке 30 июля[284]. Подлежащие демобилизации отправлялись на родину, остальные — в трудовые армии, без права ношения оружия, 9 января 1922 года состоялось решение ВЦИК об освобождении из лагерей принудительных работ некоторых категорий заключенных, в т. ч. детей до 16 лет, женщин с детьми до 12 лет, а также мужчин старше 55 и женщин старше 50 лет, утративших трудоспособность по болезни.
Более того, учитывая возросшую религиозность среди рабочих, перед Рождеством 1922 года большевики выпустили из тюрем и лагерей много духовных лиц, но этот жест в отношении духовенства стал как бы наивысшей точкой в развитии политических уступок большевистской власти недовольным массам. Совершенно иная политика предпринималась властью по отношению к старой интеллигенции, в лояльности которой компартия имела все основания сомневаться, и в принципе, чьи права на место в будущем общественном устройстве были очень подозрительны с точки зрения научного коммунизма. Отношения с интеллигенцией всегда являлись ахиллесовой пятой социальной политики коммунистического руководства, и со временем эта «пята» становилась только болезненней и беспокойней для официальной советской идеологии и пропаганды. Верховный реввоентрибунал в циркуляре от 2 марта 1922 года указывал, что применяемая трибуналами высшая мера наказания за прошлую связь с зелеными и участие в бандах к тем из крестьян, которые, «осознав свои заблуждения», вернулись к своему труду, — эта мера является «абсолютно нецелесообразной». То же самое относится к крестьянам и рабочим, впервые привлекающимся к суду за преступления уголовного характера, совершенные в силу тяжелого материального положения. Другое дело лица буржуазного происхождения: бывшие торговцы, офицеры, интеллигенты и члены враждебных Соввласти партий[285].
Интеллигенцию, в общем-то, только по крайней необходимости терпели в государстве диктатуры пролетариата. Советская коммунистическая идеология до гроба носила родовые пятна пролетарской и бюрократической враждебности к классу умственного труда. Как ни пыталась Советская власть в зрелом возрасте маскировать эти пятна и комбинировать символы серпа и молота с эмблемами умственного труда, подобное сочетание никогда не получалось художественно удовлетворительным.
Утверждение моноидеологииСами вожди большевизма являлись преимущественно выходцами из интеллигентной или полуинтеллигентной среды старой России. Их фамильные корни уходили в глубинные пласты социальных низов девятнадцатого века, откуда главным образом и вела свою родословную революционная интеллигенция века двадцатого. Нахватавшиеся верхов, усвоив внешние признаки образованности, но совершенно не переварившие их глубоко и органически, они не поняли той мощной культуры, к которой прикоснулись, и остались глубоко чужды ей, если она не содержала близких им социально-политических идей. Они направили полученное образование и разум на разрушение ненавистной им, как выходцам из низов, «барской» культуры и просто цивилизованной жизни. Культурные ценности, созданные совокупными усилиями всего русского общества и воплощенные в творчестве его наиболее блестящих и талантливых представителей, остались для образованных, но внутренне малокультурных большевистских вождей предметами роскоши господствовавших классов и отделены непроходимой границей. Французские куплеты, исполнявшиеся шансонье в парижских рабочих кварталах и примитивно обличавшие жадного буржуа, были Ленину намного ближе и родней, чем любая из русских опер. Таков был уровень восприятия культуры у наиболее развитых представителей большевистской элиты. Поэтому не удивительно, что их политика в отношении «нереволюционной» интеллигенции нередко отличалась бесцеремонностью и невежеством. Просто было абсолютно глухое непонимание того, например, с каким сокровищем в лице больного Александра Блока они имеют дело. Для «пролетарской» власти это был прежде всего подозрительный субъект, от которого можно было лишь ожидать контрреволюционных заявлений за границей.
28 июня 1921 года из иностранного отдела ВЧК в ЦК РКП(б) поступило отношение, в котором сообщалось, что в отделе имеются заявления от ряда литераторов с просьбой о выезде за границу. Далее говорилось, что ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства, поскольку уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России и что некоторые из них, такие, как Бальмонт, Куприн, Бунин, «не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями». В доказательство приводилось письмо В.В. Воровского начальнику особого отдела ВЧК В.Р. Менжинскому, в котором тот сообщал о «злостном контрреволюционере и ненавистнике большевизма» Рахманинове, семья которого выпущена за границу, а также вообще о том, что неразумно выпускать за границу совслужащих с семьями, поскольку возникает «стремление остаться за границей»[286].
Летом 1921 года большевистское руководство было настолько удручено последствиями военнокоммунистической политики в Поволжье, что некоторое время не могло определить твердую линию поведения в отношении к интеллигенции. Здесь же сказывались и надежды на иностранную помощь Советам. Только этим объяснялся тот факт, что летом советское правительство пошло на переговоры с представителями интеллигенции по образованию комитета помощи голодающим. 20 июля состоялось предварительное заседание Всероссийского комитета помощи голодающим, на котором присутствовали наиболее расположенные к интеллигенции члены советского правительства (Л.Б. Каменев, Л.Б. Красин, А.В. Луначарский, Г.И. Теодорович и др.), а также представители «общественности» (С.Н. Прокопович, М.И. Щепкин, Е.Д. Кускова, М.Н. Кишкин, В.Н. Фигнер и прочие известные лица). В ответ на декларацию, зачитанную Кишкиным, Каменев от имени правительства заявил, что правительство подчеркивает аполитический характер начинания и не связывает себя обязательствами. Деловая работа не встретит препятствий со стороны властей, пообещал Каменев и далее произнес загадочную фразу: «Мы создали диктатуру пролетариата и это определяет характер тех гарантий, которые может дать правительство». В интервью московской газете «Коммунистический труд» Каменев пояснил читателям, что разрешение создания комитета вызвано тем, что русская эмиграция выступает за то, чтобы представить помощь Советской России на условиях изменения политического строя в стране и здесь очень важно выступление ряда бывших деятелей кадетской и других буржуазных и мелкобуржуазных партий с готовностью работать под руководством советских властей без всяких политических условий. Это, по мнению Каменева, явилось прямым вызовом заграничному «охвостью» белых организаций русской буржуазии[287].
В циркуляре ЦК РКП(б) от 10 августа секретным образом разъяснялся этот шаг навстречу буржуазной интеллигенции секретарям губкомов и председателям исполкомов. Во-первых, чисто деловыми соображениями, не позволяющими отказываться от какой-либо помощи, и расчетом получить через комитет некоторые средства от буржуазных и правительственных кругов за границей. Во-вторых, намерениями внести таким образом раскол в среду русской эмиграции, чьи лидеры, Милюков и Чернов, выдвигают идею помощи Советам при условии политических реформ и выступают с этим перед иностранными правительствами. Пояснялось: комитет будет использован для раскола в русской буржуазии «так же, как была использована брусиловская комиссия во время польской войны»[288].
Однако отношения с либеральной интеллигенцией длились недолго. Аппарат оправился от первоначального шока и заработал в привычном режиме. Невзирая на негативную реакцию за рубежом комитет, получивший за глаза название «Прокукиш», был распущен, и это ознаменовало начало нового этапа политических репрессий в отношении старой интеллигенции, которая в силу своей природной рефлексивности и плохой управляемости была не нужна в стране победившего пролетариата, культивировавшей примитивизацию своей социальной структуры.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Книги похожие на "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павлюченков Алексеевич - «Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг."
Отзывы читателей о книге "«Орден меченосцев». Партия и власть после революции 1917-1929 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.