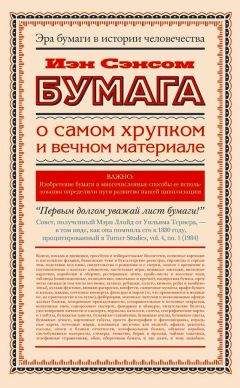Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Описание и краткое содержание "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего». Характерно, что модель «незамеченного поколения», возникшая в условиях институционального кризиса, но высокого статуса национальной литературы, активно используется в 90-е и 2000-е для описания современных сюжетов.
Именно потому, что сверхценным действием становится выражение невыразимого, для наших героев равно значимы два риторических регистра: «проговаривание» («откровенность», стремление «называть вещи своими именами», внимание к «очевидному», нечувствительность к тавтологиям и повторам) и «недосказанность» («ироничность», декларативное нежелание «говорить о себе», активное использование кавычек и вообще любых маркеров «чужого слова», уклончивые высказывания, провокации и намеки). Общность формируется через постоянное проговаривание «самого важного» — ключевое слово здесь не «важное», а «проговаривание».
С этой точки зрения понятно, почему Георгий Федотов использует метафору круга с невидимым, еще не обретенным центром: ценностные ориентиры, о которых говорят «молодые литераторы», объединяют их лишь в момент говорения и лишь благодаря говорению. В конечном счете эти ориентиры не имеют значимости сами по себе, самое значимое для участников разговора — непрестанное ожидание иных, еще не проявленных смыслов. Именно поэтому настойчивые «разговоры о Боге», тем более когда они предъявляются в качестве поэтической программы, могут, на первый взгляд парадоксально, интерпретироваться «старшими литераторами» как «новый нигилизм», «новое ницшеанство», «утверждение Ничто». Несколько лет спустя после распадения «Круга» Федотов пытается описать особенности «парижской школы» (или «школы Адамовича») следующим образом: «В радикальном аскетизме отрешенности Адамович требовал отрешения от поэзии. Он не уставал повторять, что поэзия умерла, что надо перестать писать стихи. Но если писать, то нужно забыть, что их пишешь. Менее всего думать об искусстве, о форме, а только о том, для выражения чего она служит. Но так как это „что-то“ еще не найдено, то часто кажется — для большинства со стороны всегда казалось, — что этот путь есть чистый нигилизм, разложение»[362]. Невидимость, непроявленность центра компенсируется постоянным уточнением и акцентированием границ, при явной фобии какой бы то ни было оформленности и ограниченности. «Молодым эмигрантским литераторам» важно чувствовать себя изолированными — на несокрушимость этого чувства обращает внимание Михаил Осоргин: «Писатели здешние, имея в своем распоряжении весь мир, за выключением собственного дома, не находят в этом мире ничего, кроме душевной пустоты и утверждения своего „одиночества“»[363].
Конструкт поколения, по определению Ортеги-и-Гассета представляющий собой «динамичный компромисс между массовым и индивидуальным»[364], становится своеобразным алиби для наших героев. Он позволяет признать «одиночество» коллективным переживанием, причем характерным не только для замкнутого круга эмигрантских литераторов, но и для обобщенного «человека 30-х годов». Более того, вместе с конструктом поколения закрепляются приоритетные формы идеального взаимодействия: возможность эмпатии, понимания друг друга с полуслова. Заявляя о своей принадлежности одному поколению, участники «монпарнасских разговоров» заявляют и о том, что они «говорят на одном языке». С такой точки зрения общий язык вырабатывается сам собой, без сознательных усилий, что и позволяет сохранить за говорением особый статус — статус ритуала, коллективного обращения к запредельному и невыразимому.
Литература как институт незамеченности
«Путь в литературу» описывается нашими героями — прежде всего, конечно, Владимиром Варшавским в его «Незамеченном поколении» — как сопряженный с повышенными трудностями. «Путь в литературу», как мы уже выяснили, подразумевает здесь стремление включиться в сообщество эмигрантских литераторов, при этом переструктурировав его, определив существующую «литературу» как старшую и противопоставив ей абстрактную молодость. Признанные литераторы, которые с появлением «молодого поколения» превращаются в «старших», безусловно, поддерживают замкнутость своего сообщества, это среда с распределенными ресурсами и ролями, среда, блокирующая каналы восходящей мобильности.
В то же время именно из-за узости круга сам процесс социализации начинающих поэтов и писателей значительно упрощается: сильно огрубляя, можно сказать, что в замкнутом эмигрантском сообществе легче оказаться замеченным. Тут важно, что эмиграция деформирует механизмы разграничения «актуальной» и «второстепенной» литературы, «мейнстрима» и «маргинальности». Марк Слоним замечает: «В России мы хорошо умели отличать литературную „столицу“ от литературной „провинции“: здесь, за рубежом, все объявлены столичными жителями, все принимается всерьез <…>. В эмиграции и читатель, и средний критик твердо взяли линию на литературную провинцию»[365]. Понятно, что ущербность института литературы (дезориентация, отсутствие устойчивых эталонов, снижение критериев оценки, фобия «провинциальности», фобия «тупиковости») в данном случае осознается в той же мере, в какой кажутся ущербными все прочие вывезенные, реконструированные в эмиграции социальные институты. «Столица» и «провинция» неразличимы не только и даже скорее не столько в пространстве литературы, сколько в социальном пространстве вообще. Идея «зарубежного государства», «единого государства эмигрантов», с одной стороны, активно поддерживается интеллектуальной элитой (в частности и в особенности литературной), а с другой, сохраняет статус мифа, метафоры, миража[366] — и только в таком качестве может быть принята. Институционализация «зарубежного государства» вызывает отторжение далеко не только у Слонима, известного своими просоветскими симпатиями. Так, Юрий Терапиано пишет: «Создалось государство в государствах, определимое даже территориально, новая славянская страна, наподобие какого-нибудь балканского государства. Сами того не замечая, мы выпустили из рук великодержавный масштаб прежней России и подменили его мерой несравненно меньшей, но жизненно стойкой. Именно то обстоятельство, что в рассеянии мы сумели организовать свой устойчивый быт, свою прессу и свою зарубежную литературу, повело, при недостаточности внимания к себе, к превращению Исхода в новообразование <…>. Ужасно, если так окажется»[367]. Иными словами, наши герои осознают свою принадлежность призрачному государству, но это воображаемое гражданство не только приобретает отчетливый уничижительный оттенок (явное обмельчание по сравнению с масштабами российской империи), но и легко может быть подвергнуто сомнению. Стать центром такой фиктивной страны пытаются самые разные институции и институты (от «Русского эмигрантского комитета» до собственно «литературы»). Однако ни одна из этих организаций или инстанций не обладает полномочиями перевести идею зарубежного государства из публицистической модальности в политическую[368], связать в единую систему осколки тех эмигрировавших институтов, которые продолжают определяться через национальную атрибутику. Понятно, что положение компенсируется, с одной стороны, акцентированным переживанием «одиночества и свободы», а с другой — постоянным подчеркиванием, утрированием «национального» на наиболее официальных, авторитетных уровнях.
Что происходит в этой ситуации с ролью «молодого литератора», с представлениями о литературном успехе, о «пути в литературу»? Отвергая образ эмигрировавшей, законсервированной литературы, наши герои противопоставляют ему образ «литературы в эмиграции», литературы, призванной «развиваться в новых условиях», в «подполье» и «катакомбах»[369], стать «Ноевым ковчегом» посреди прошлых и грядущих потрясений[370]. Казалось бы, здесь и должны срабатывать механизмы, описанные Бурдье в терминах «автономизации литературного поля»: литература как социальная практика формирует собственные символы успеха и признания, не зависящие от внешних, коммерческих или идеологических вызовов (крайний пример — «искусство для искусства»). Однако литература существует в подобном режиме лишь в том случае, если ее границы четко очерчены, если ей отводится определенное, устойчивое место среди других социальных областей, наконец, если отлажены те самые каналы экономических или политических поощрений, с которыми может конкурировать собственно литературный «капитал». И в условном зарубежном государстве, и в столь же условном зарубежном подполье такая независимость становится для «молодых литераторов» не менее шаткой позицией, чем ангажированность. В этом смысле любая сколько-нибудь отчетливая позиция, предполагающая то или иное видение места литературы в системе других практик и институтов, начинает казаться либо устаревшей и провинциальной, либо недостаточно эмигрантской. С этой точки зрения, скажем, Мережковский и «старшее поколение» вообще представляются слишком политизированными, Набоков — слишком искусственным, а раскупаемая, «потворствующая массовому вкусу», литература ущербной вдвойне, поскольку обслуживает замкнутый круг читателей-эмигрантов. Конечно, метафоры подполья или ковчега не только указывают на замкнутость литературного сообщества, под ними подразумевается не только «литература для избранных» — в отличие от «башни из слоновой кости», эти территории бегства отсылают к образу большой литературы, которая была разрушена или разрушается в настоящем, но непременно должна возродиться в будущем.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Книги похожие на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Отзывы читателей о книге "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.