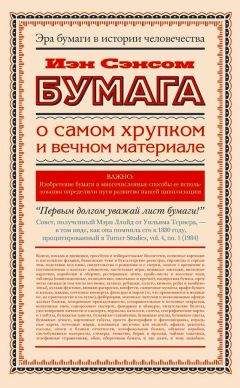Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Описание и краткое содержание "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего». Характерно, что модель «незамеченного поколения», возникшая в условиях институционального кризиса, но высокого статуса национальной литературы, активно используется в 90-е и 2000-е для описания современных сюжетов.
В рамках другой — преимущественно англоязычной — исследовательской традиции проблема «внутреннего» и «внешнего» решается как проблема «приватного» и «публичного»[351]. Оперируя этими категориями, английский историк Ричард Сеннет связывает с востребованностью романтических представлений о неисчерпаемых, непредсказуемых, непознаваемых глубинах личности своеобразный невроз невыразимости: «Выражение перед другими того, что вы чувствуете, кажется в то же время и очень важным, и совершенно бесформенным, формообразующее и объективирующее выражение как будто бы лишает выражаемые чувства их подлинности. <…> Из страха перед объективацией импульсов и производством знаков человек устраивает свою выразительную жизнь так, что обязательно терпит крах при передаче другим того, что явлено для него самого, и обязательно обвиняет их в этой неудаче»[352]. С этой точки зрения общение не устраняет, а, напротив, укрепляет невроз: «…Тем самым укрепляется убежденность, что ваши собственные импульсы — единственная реальность, на которую вы можете положиться»[353]. Определив такое состояние как «нарциссическое», Сеннет прослеживает — вплоть до середины XX века — возникновение особых типов общности, не только не способствующих, но и препятствующих совместной деятельности: проникновение символов интимного, приватного пространства в публичную сферу подразумевает стремление отдалить любое достижение поставленных целей как потенциальную угрозу объективации, завершенности, исчерпанности.
Понятно, что утрированное в обеих теориях переживание общности как чего-то остро необходимого и в то же время невозможного в эмигрантской ситуации в самом деле оказывается особенно актуальным. Предпринимая попытку описать «молодое поколение» именно как сообщество, с установленными нормами коммуникации и закрепленными формами совместного времяпрепровождения, Георгий Адамович замечает: «Здесь вообще больше музыки в словесном общении, больше понимания с полуслова, и потому каждое договоренное слово или логически развитая мысль кажутся ненужными и именно грубыми. Но это иллюзия, самообман. Есть где-то у Ницше замечание, что „жизнь плохо выдерживает соседство со смертью“ и „не умеет так прекрасно одеваться“. Здесь происходит что-то в этом роде. Только, пожалуй, вместо понятия смерти надо здесь поставить родственное ему понятие одиночества»[354]. В таком сообществе «разговор съеден иронией», а если вдруг «расширяется», то «лучше слушать не самые слова, а голоса, тон, внутренний напев речей: особенность только в этом»[355]. Позитивные значения общности задаются при помощи романтической метафоры музыки, столь значимой и для Адамовича, и для Поплавского, и в конце концов определившей выбор одного из самоназваний — «парижская нота». Негативные, сниженные смыслы, связанные с общением, концентрируются вокруг метафоры театра — напомним, что Адамович заговаривает о театре в тот момент, когда намеревается разоблачить иллюзорность публичных высказываний. Аналогичным образом при помощи метафоры театра теней Василий Яновский описывает в своих мемуарах «жестокий социальный опыт», открывшийся ему на вечере «Чисел» во время антракта: «Увы, нигде снобизм, чинопочитание, местничество не развиваются так безобразно-болезненно, как в безвоздушной, беспочвенной среде, лишенной реального, казенного пирога. <…> Противнее всего склока там, где совершенно нет разумных причин для какого бы то ни было соревнования. Именно в царстве грез осуществляется самый жестокий бой — китайских теней на стене»[356]. Суть опыта заключалась в том, что, вопреки кажущейся бесформенности, в литературном сообществе обнаружилась строгая иерархия статусов и репутаций. Яновский с горечью замечает: даже в частном, приватном общении более успешные литераторы предпочитают игнорировать менее успешных.
Итак, «свое» сообщество то воспринимается нашими героями как некий единый организм, членов которого объединяет внутренняя связь, невыразимая эмпатия, то представляется случайным собранием одиноких, непроницаемых друг для друга личностей — тогда маркированным модусом общения оказывается «ирония» (или, в чуть более жесткой версии, «снобизм»). Согласно этим представлениям, общность должна выражаться на музыкальном языке чувств и предчувствий, разобщенность — на театральном языке действий, поступков, любых проявлений достижительной ориентации. Конструирование сообщества превращается в поиск сверхценных сценариев совместного поведения, которые позволили бы соединить две стороны распавшегося образа поэта, литератора, — «одиночество», «уникальность», «неисчерпаемость личности», во-первых, и потребность в реализации, во-вторых. Коль скоро институциональные механизмы, обычно выполняющие роль такой связки[357], в эмиграции атрофируются, утрачивают мотивацию, их место занимают мифы о литературной жизни (петербургской или монпарнасской) и дистанцированные от собственно института литературы множественные, неустойчивые, противоречивые модели сообщества. Мы имеем дело с сообществом слишком праздным для того, чтобы быть принятым в качестве новой литературной группы, слишком структурированным для того, чтобы раствориться в монпарнасском кафе, слишком аморфным для того, чтобы стать сектой. Не утверждается в качестве сверхценного и тип поведения, сформировавший хемингуэевское «потерянное поколение» (циничная мужественность, мужественная взаимопомощь и т. д.), — наши герои могут идеализировать и поэтизировать «военное товарищество», но этот опыт сообщества так и не становится общим. При помощи идеализированных образов «братства», «товарищества», «дружбы» транслируются представления о сообществе, существующем вне социальных иерархий. Тем болезненней переживается разочарование, «жестокий социальный опыт», разоблачение корыстных мотиваций, на самом деле руководящих членами сообщества. Иными словами, конструкция сообщества разрушается при попытке описать основания для совместного действия, а образовавшиеся пустоты обозначаются как свидетельства подлинного, предельного существования, не знакомого никаким другим группам. В бесспорно неработающем и неописуемом сообществе «молодых эмигрантских литераторов» все предельно — предельная степень единения, предельная степень одиночества, предельная степень осмысленности бытия, предельная степень нищеты.
Пожалуй, единственным безусловным, не подвергающимся сомнению, признаваемым всеми знаком общности остается «разговор» — наши герои разговаривали друг с другом, и только это мы можем утверждать с уверенностью. «Разговор», который Адамович предлагает воспринимать как музыку, непременно описывается в мемуарах некогда «молодых» литераторов: разговор здесь — нечто большее, чем обмен сообщениями, нечто большее, чем коммуникация в узком смысле этого слова. Это своеобразный коллективный ритуал, во время которого — «незаметно, безо всякой преднамеренности, сам собою»[358] — возникает особый «духовный климат», особая «атмосфера», наконец, «странное волнение, предчувствие возможности содружества и братства»[359]. Иными словами, значения сверхценного совместного действия редуцируются до разговора как такового, общения как такового. Результаты этого действия аморфны, плохо поддаются вербализации, важен сам процесс разговора — он воспринимается как единственный доступный способ осознать себя членом сообщества и в то же время как единственная возможность коллективного взаимодействия с «другим», запредельным, иррациональным. «Монпарнасские разговоры» сразу же привлекают внимание «чужих», сторонних наблюдателей («„Ах, как вас здесь много и какие все ведутся у вас разговоры!“ — воскликнула одна пражская поэтесса, в первый раз оказавшись на Монпарнасском собрании»[360]) и чаще всего вызывают при этом раздраженное неприятие (так, Роман Гуль замечает: «Мне все эти РАЗГОВОРЧИКИ были совершенно чужды, я их не только не любил, но находил какой-то безвкусной кощунственной болтовней. Нормально, если человек думает о Боге, нормально, если человек пишет о Боге, нормально, если человек проповедует Бога. Но душевно противно, когда на каком-то собрании люди РАЗГОВАРИВАЮТ о Боге»[361]). Таким образом, способность (готовность, желание) вступить в разговор, признав его особый статус, и очерчивает рамки интересующего нас сообщества.
Именно потому, что сверхценным действием становится выражение невыразимого, для наших героев равно значимы два риторических регистра: «проговаривание» («откровенность», стремление «называть вещи своими именами», внимание к «очевидному», нечувствительность к тавтологиям и повторам) и «недосказанность» («ироничность», декларативное нежелание «говорить о себе», активное использование кавычек и вообще любых маркеров «чужого слова», уклончивые высказывания, провокации и намеки). Общность формируется через постоянное проговаривание «самого важного» — ключевое слово здесь не «важное», а «проговаривание».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Книги похожие на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Отзывы читателей о книге "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.