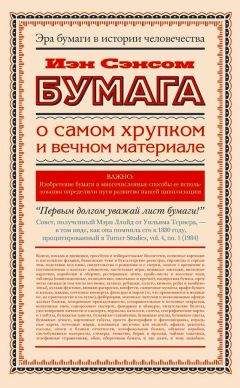Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Описание и краткое содержание "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать бесплатно онлайн.
Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего». Характерно, что модель «незамеченного поколения», возникшая в условиях институционального кризиса, но высокого статуса национальной литературы, активно используется в 90-е и 2000-е для описания современных сюжетов.
Последний резкий жест, связанный с сюжетом «молодой эмигрантской литературы», — попытка вывернуть этот сюжет наизнанку, доказать его отсутствие. Гайто Газданов публикует статью, согласно которой не только «Числа» представляют фиктивную «молодую литературу», но и сам конструкт «молодой эмигрантской литературы» оказывается фикцией: «Уже не впервые за последние годы нам приходится присутствовать при одном удивительном споре, в котором спорящие высказывают суждения общего и частного порядка, излагают программы, намечают пути и т. д. Удивительно в споре, однако, не это, а то, что предмета спора вообще не существует. Вместо него есть чисто абстрактное представление о том, что должно быть — и что, стало быть, есть — либо явное недоразумение, либо, наконец, чрезвычайно произвольное толкование слова „литература“. Это спор о молодой эмигрантской литературе»[252]. Впрочем, это заявление не столь радикально, как может показаться на первый взгляд: «Было бы, конечно, неправильно сказать, что за границей совершенно нет молодого литературного поколения. Есть, конечно, „труженики“ и „труженицы“ литературы; но только какое же это имеет отношение к искусству?»[253] — Газданов всего лишь разводит образы «нового поколения» и «новой литературы», при этом «литература» понимается вполне традиционно — как система высоких, бессмертных достижений. Такая литература в эмиграции невозможна: «За шестнадцать лет пребывания за границей не появилось ни одного сколько-нибудь крупного молодого писателя. Есть только одно исключение — Сирин, но о его случае следует поговорить особо»[254].
Итак, поиск «талантливой молодежи» начинается с констатации неуспеха и завершается ею же. Интонации газдановской статьи вызывают раздражение Адамовича, однако ему приходится признать: «В сущности, верно, почти верно»[255]. В самом деле, несуществующая, «не получившаяся»[256] литература, которую разоблачает Газданов, мало чем отличается от жертвенной литературы, которую столько раз отстаивал Адамович. «Среднее поколение» пытается смягчить удар, ссылаясь на отсутствие не только эмигрантской, но и советской и даже «мировой» литературы: «Ошибка, по-видимому, в том, что мы считаем свое время исключительным в истории, а зарубежную литературу отделяем от общерусской. <…> Никакой трагедии в этом нет; после стольких и таких грандиозных разрушений стройка требует долгого времени и смены поколений; есть только личная трагедия поколений промежуточных, к которым принадлежит Газданов, как и молодые авторы советские. <…> Кстати, где новые гении литературы мировой? <…> Всегда страшно болтаться в случайном отрезке истории, думая, что только наше время попало в ее мясорубку»[257], — убеждает «молодых авторов» Михаил Осоргин. «Значит, сейчас вообще нет русской литературы»,[258] — обреченно заключает Адамович.
В предвоенные годы, когда метафоры отсутствующей литературы ощутимо вытесняют энергичную мессианскую риторику, когда подчеркнуто нейтральные, эмоционально стертые заголовки статей («Русская литература в эмиграции», «Литература в изгнании», «О молодой эмигрантской литературе») все чаще уступают место прямым декларациям безысходности («Несостоявшаяся прогулка», «В тупике», «Перед концом», «Немота», «Сопротивление смерти»), — по инициативе Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского издается сборник «Литературный смотр», призванный стать символическим «салоном отверженных», подчеркнуть беспрецедентность коллективной гибели. Важно, что трагедия, гибель, умирание связываются именно с коллективным образом, с образом «целого поколения»: «…Русские в России — это одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда, там, отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтобы гибло целое молодое поколение — об этом и речи быть не могло. А сейчас <…> можно опасаться и этого»[259], — констатирует Гиппиус во вступительной статье к книге и предпринимает крайний шаг для спасения гибнущих писателей и гибнущего конструкта «молодого поколения»: приглашает «молодых литераторов» и их ближайших (разумеется, тоже отверженных) наставников написать эссе на любую, но обязательно «самую важную», «самую интересную» для них тему. Уникальность проекта очевидна — сборник преподносится как последняя возможность сказать последние слова. Читателям предлагается не замутненная никакими сторонними смыслами неудача, чистое отчаяние, голос смерти.
В то время как «молодые» авторы сборника (Лидия Червинская, Юрий Фельзен, Юрий Терапиано) охотно и привычно «бродят около важного», воспроизводя темы и штампы последнего десятилетия, Георгий Адамович начинает собственный тексте неожиданного для идеолога молодого поколения вопроса: «А если меня ничего не интересует?». Комментируя редакционное задание с усталой иронией («Сборник о самом важном! Самое важное в недоумении — есть ли у нас важное и что это такое»), и тем не менее пытаясь поддержать давно обещанный «разговор о важном», Адамович обнаруживает непреодолимое препятствие — рамки отведенного для этого разговора публичного пространства; в конечном счете рамки коммуникации как таковой, языка как такового. «Как пишется статья, как сочиняется доклад или „берется слово“ в прениях? К сожалению, это всегда театр — и оттого настает время, когда это перестает волновать <…> Если во мне — в любом из нас — что-то еще теплится, я безотчетно задуваю огонек, едва беру перо в руки. Самое важное, что я не знаю, как соединить одно с другим, — и пишу сейчас эти строки, зная, что я этого не знаю»[260]. Разоблачение процедур говорения и письма как неподлинных, условных, театральных, вообще акцентированная театральность литературного сообщества подразумевает, что спектакль окончен. Трагедия «молодого поколения» разыграна.
В 1942 году, называя себя одним из «немногих счастливцев, спасшихся из европейского ада» и, кажется впервые, закрепляя за «парижской поэзией» статус школы, Георгий Федотов замечает: «Наше поколение, рабочая пора которого пришлась между войнами 1919–1939 — свое слово договорило до конца. Для будущего историка само оно и эпоха его, смутная и сумеречная, уже очерчены до последнего штриха»[261]. Хронологические границы размечены, время существования поколения — не только «молодого», но «эмигрантского поколения» вообще — четко определено. Подчеркнем: через призму поколенческой риторики на сей раз описывается эмигрантская литература в целом; «старший наставник» с готовностью использует язык «молодых», говоря о «нашем поколении»; иными словами, поколенческий сюжет явно остается самым значимым в драматургии литературной жизни истекшего двадцатилетия.
Впрочем, попытки перевести сюжет «молодого эмигрантского поколения» в режим повествования о прошлом вновь оказываются драматичными. Кажется, этот конструкт слишком плохо приспособлен для традиционного исторического нарратива: эпитет «молодое» с течением времени становится все более неуместным и все чаще подменяется вариациями — «младшее», «второе поколение»; но и эти, тоже соотносительные, определения не указывают на сколько-нибудь специфическую «роль в истории». Подводя очередные итоги эмигрантской литературы (на сей раз тридцатилетней), Георгий Адамович с неудовольствием замечает: «Милюков в „Очерках по истории русской культуры“ <…> посвятил десятки страниц разбору советских романов. <…> Об эмиграции, в частности о втором ее поколении, — ни слова. <…> Милюков был историком. В данном случае исторического беспристрастия он не проявил»[262]. Именно неудовлетворенность предложенными версиями истории межвоенной эмигрантской литературы побуждает Владимира Варшавского к написанию собственной книги — автор «Незамеченного поколения» ревностно фиксирует знаки незамеченности: Николай Ульянов, выступая на «Днях русской культуры» в Касабланке, проигнорировал существование «молодых» эмигрантских литераторов, упомянул только Нину Берберову и Романа Гуля, но и их причислил к «дореволюционному поколению»; Марк Слоним «в своей работе „Modern Russian Literature“ (том чуть ли не в 500 страниц) уделил „младшим“ эмигрантским писателям всем вместе около двух страниц»[263].
Подсчет страниц, отвоеванных «молодой» («младшей», «второй») эмигрантской литературой у истории, связан с требующей неотложного решения проблемой: как соединить ценностно окрашенное отношение к истории, восприятие истории через символы «признанных достижений» с концепцией неуспешного, бесславно погибшего поколения. Если Адамович мягко уклоняется от решения этой проблемы («Об отдельных творческих успехах или неудачах — когда-нибудь в другой раз! Несомненно успехи были, и порой значительные…»[264]), то книга Варшавского целенаправленно утверждает неуспех как нечто достойное высокой истории. Тут уже недостаточно ссылок на сафьяновые корешки «проклятых поэтов», Варшавский апеллирует к канонизированным, «классическим», «великим» образцам: «В мистическом искусстве никогда не может быть полной удачи — слишком несоизмерим с человеческими словами изображаемый „предмет“. Но если бы не было в Гоголе, Достоевском и Толстом безумной жажды, приведшей их к этим „неудачам“, то не было бы и того огромного дыхания жизни, которое поддерживает весь мир их творчества, и русская литература не была бы чудом, сравнимым, как это справедливо указывалось, с чудом Греции или готических соборов, со всем самым великим, что было создано людьми»[265]. Той же цели служит цитата из Мюссе, позаимствованная у Аполлона Григорьева, — Аполлон Григорьев завершает ею книгу воспоминаний, Варшавский, напротив, с нее начинает: «Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир: они глядели на землю, на небо, на улицы, на дороги — все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении»[266].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Книги похожие на "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы"
Отзывы читателей о книге "Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы", комментарии и мнения людей о произведении.