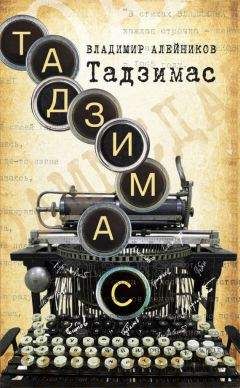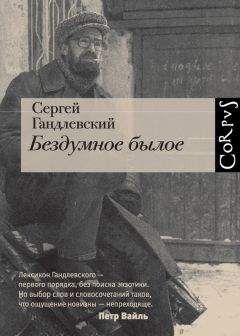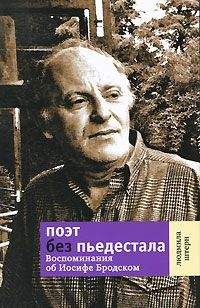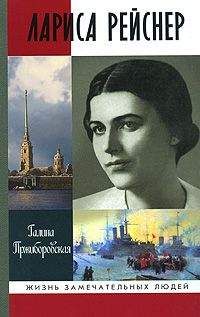Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Описание и краткое содержание "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах" читать бесплатно онлайн.
Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) — поэтесса, чьи стихи в советское время почти не печатались. М. И. Цветаева, имея в виду это обстоятельство, говорила о ней: «Вы — большой поэт… Но Вы — поэт без второго рождения, а оно должно быть».
Воспоминания О. А. Мочаловой привлекают обилием громких литературных имен, среди которых Н. Гумилев и Вяч. Иванов, В. Брюсов и К. Бальмонт, А. Блок и А. Белый, А. Ахматова и М. Цветаева. И хотя записки — лишь «картинки, штрихи, реплики», которые сохранила память автора, они по-новому освещают и оживляют образы поэтических знаменитостей.
Предлагаемая книга нетрадиционна по форме: кроме личных впечатлений о событиях, свидетельницей которых была поэтесса, в ней звучат многочисленные голоса ее современников — высказывания разных лиц о поэтах, собранные автором.
Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов РГАЛИ.
Она могла ходить в огромных валенках, не интересуясь, как это выглядит со стороны. Правда, времена нашей юности были безодёжны, без званых вечеров, без общества — революция разрушила прежний бытовой уклад. И все же — эта ее черта была необщей. Но Варя и так была хороша. Мелодичный голос, мягкие, гибкие движения, неопределимая женственная прелесть, разлитая во всем существе. «Что в Вас такое особенное?» — спрашивал поклонник. — «Ничего, ничего», — отвечала она. И все же знала свою магическую привлекательность.
«Когда я вижу Вас, у меня к Вам поют флейты», — говорил сослуживец Подпалый. «Звезда» называл ее Василий Федоров, долговременный спутник жизни. «Звезда» в дальнейшем сократилась в «звездь». Некто в Румянцевской читальне, узнав ее имя, прислал восторженный акростих. Встречный на улице упорно делал предложенье руки и сердца. В какое-то лето сестра Мария насчитывала до 10 Варюшиных поклонников: два Петровских[230], Розанов, Абрам Эфрос[231], Локс[232], Тарас Мачтет, Георгий Оболдуев.
«Вы похожи на героиню лермонтовской „Тамани“», — говорил один из Петровских. Это, положим, было неверно. Варя была комнатной барышней, с нервами, малокровием, пугливостью, с наследственной надломленностью воли. «В глазах золотые круги плавают», — жаловалась она.
У нее был культ прихоти. «Я хочу из каждого экзамена делать игрушку. И сдавать только то, что хочется». Дерзость, беспечность, неопытность. Иронический тон в обращении. «Это безобразие, что мне ничего не нравится». Но все-таки нравился с детских лет. Какая-то была здесь преемственная связь…
«У Вареньки родинка, Варенька — уродинка». (Лопухиной[233].) И у этой Вареньки была под виском родинка. «Зачем природа запятнала такое милое личико?» — думал Иван Никанорович, заметив Варю, шедшую подругой стороне улицы.
Невеста была капризна. «Сельвинский поцеловал мне руку не так».
Синеглазый юноша Яков Гордон был убит на фронте гражданской войны в 1921 году. Помню боль — ослепительную, пронзительную, сшибающую с ног. Мы сидели на арбатском бульваре и рыдали. Были безумные надежды — он вернется. Были «Стихи об уехавшем»:
«И казак, подняв твою папаху
С бедной кровью, набекрень надел».
«Я не покончу с собой, что за мелодрама: поэтесса повесилась. Но я умру, зачахну естественно, без сопротивленья». Нет, не зачахла. Случилось другое. Медлю подойти к теме: «Сергей Бобров». Лучше — об ее творчестве. Оно было в ней органично, естественно и неизбежно, как дыханье. Оно встречало немало признаний.
Помню вечер ее выступления в Доме Герцена. «Если бы я сегодня говорил, это была бы сплошная патетика», — начал свое высказывание Левонтин[234]. Более скупо хвалил Иван Рукавишников, отмечая формальные достиженья. Звучали мнения: «Лучшая поэтесса СССР». «Не утончение, а уточнение», — отзывался привередливый критик Георгий Оболдуев. Ядовитый Иван Аксёнов находил в Мониной доказанное своеобразие. «Лучшее, что в Вас есть — импрессионизм!» — восклицал Пастернак. Такой период был, когда она писала «Crescendo жизнеконцерта». На вечерах Георгия Оболдуева она имела неизменный успех — личный и творческий. Говорил Иван Пулькин[235]: «Теплых слов в русской поэзии много, но эта теплота совсем особенная». Похвалы, радуя, не кружили голову поэтессе. Требовательна к себе она была неизменно.
Но требовательна была и жизнь. Родительское благосостоянье рухнуло, а зарабатывать Варя была малоспособна. Кое-кто находил оправданье ее бездействию в лермонтовском четверостишии:
«Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира.
Как мир не создан был для них»[236].
Но увы! Страшноват быт «лучших душ» тяжелой запущенностью, упорной беспомощностью. Неоднократно, но мельком служила в каких-то возникающих учреждениях, в каких-то неопределенных должностях. Тогда было общее явленье — служить неопределенно. Серьезно она работала впоследствии в Антирелигиозном музее недолгий срок. Когда в дальнейшем встал вопрос об оформлении инвалидности, достаточного рабочего стажа не оказалось.
И все же — Сергей Бобров.
В юности Варя писала:
«Но не умру на этом торге
За поцелуй, за страсть, за брак,
За то, что все зовут восторгом,
А я не назову никак».
Она умерла на этом торге. После гибели синеглазого жениха — границы безумия, боли, болезни — ей устроили поездку в санаторий на озеро Сенеж. Там и произошла встреча, определившая дальнейшую судьбу Варвары Александровны. Что это было с ее стороны? Ведь она тогда «и башмаков еще не износила»… Инстинкт самосохраненья, требующий лекарства — какого угодно, но избавляющего от гибельной опустошенности. Бобров подкупил ее и талантливостью, и своей манерой «забавной сказочки», остроумными словечками, приемами опытного сластолюбца, жалобами на душевное одиночество и непонятость. (Хорошо действующее средство.) Несмотря на все отрицательные стороны этой связи, мужем Варвары Мониной за всю ее 48-летнюю жизнь Бобров был единственным.
«Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем»[237].
Для Боброва Варенька (Вабик в лучшие минуты) была романом в ряду других, происходящих одновременно. Решето полно только в ту минуту, когда в него хлынет полное ведро воды. Да, человек, отдавший свою полноту, не так легко ее заменяет. Тем более она — остро-нервно-восприимчивая. Дальше был уход из родительского дома и возвращенье с зачатым ребенком. Был развод Боброва с первой женой и оформление брака с Варей, потом развод и с ней; были его постоянные измены, постоянное пренебреженье, отказы от всякой помощи, заходы на ночь и уходы на год, вторая дочь, нищета, благотворительность окружающих, одиночество, отчаянье.
Дочери — Марина и Любовь — росли. Одновременно рос Мар, сын от первой жены. Одновременно росла дочь Раиса, неизвестно от кого. Одновременно появилась «настоящая» жена Боброва — М. П. Богословская[238], и с Богословской остался он до конца дней.
Всего не знаю, всего не помню. Но вот Варя полубосая приходит к матери поздней осенью и плачет, что нет обуви. Мать дает ей то, что имеет — тапочки. Вот Варя стоит у бобровских дверей и просит помочь ей в оформлении ее положения при паспортизации. Он грубо прогоняет ее, чуть ли не пинком. В случаях захода он обращается к ней «Вар-вара-корова». «Как же ты ему позволяешь?» — «Так что же я могу сделать?» — беспомощно опускает голову она. Вот в платье из скатерти она идет беременная по улицам. В дневнике сохранилась запись тех лет: «Как свято материнство! Как легкомыслен С.Б.!» Вот на пороге дома сидит дочь Люба и поет: «Мы го-ло-да-ем»… Позднее Бобров платил алименты на детей, но приносил деньги с присказкой: «Это заработок Белочки (Богословской), это ее ночной труд, а ты берешь». Мать говорила: «Он платит деньги на детей, а что же ей?» А ей — никогда, ничего. К ней, голодной, он приходил хвастать дорогой пенковой трубкой. Садистом был всегда. В разгаре последних ласк произносил с мечтательным вздохом имя другой. Несчастная «Варвара-корова» готова была голову об стену разбить. Иногда Бобров снисходительно смягчался: «Я и тебя тоже люблю, но ты родишь вагон детей». Такой недостаток простить, конечно, очень трудно.
«Для кого же ты была невинна и горда?!»
Время шло. Дочь Марина кончила восьмилетку и ей не в чем было идти на выпускной бал. Единственная в классе не могла участвовать в складчине. Дочь Любовь — развинченная, мрачная, с началом туберкулеза. А болезни Вари? То огромный нарыв на затылке, аритмия сердца, легочная спайка, перекосившая фигуру. Но стихи — всегда.
«Никогда не тонула моя лирная скрипка».
Значит, неплохо помогали, если дочери выросли жизнеспособными, приобрели специальности, завели семьи. На старости лет Бобров стал больше интересоваться детьми, благо они уже не нуждались в помощи. Существует великолепное по характерности его высказыванье дочери Любе уже после смерти Вари: «Твоя мать всю жизнь терпела у меня нужду и молчала, а тебе 14 лет, и ты осмеливаешься у меня чего-то требовать».
Как относился поэт, прозаик, стиховед, литературовед Сергей Бобров к творчеству «Варюхи»? Ведь он не мог не быть квалифицированным критиком! Говорил: «Она способная». Всегда выискивал слова и выражения, над которыми можно было бы поиздеваться, это вообще была его манера в отношении ко всему: «Ангел-самозванец». — «Ха! Ха! Где такой прописан?» Предполагаемое названье ее сборника «Книга пик» вызывало хихиканье: «Как смешно — пик, пик, пик!» Предполагаемое названье «Звонок в пустую квартиру» превращалось в «Звонок впустую». Мою тетрадку стихов «Висячий сад» он толковал — «Висячий зад». Теперь, на старости лет, получив сохраненные мною стихи, находит Монину прекрасным поэтом. Раньше он порицал в ней всё. «Женщина должна мило болтать о пустяках: парикмахер плохо завил ей локон, левая туфелька жмет ножку и т. п. А ты говоришь, как мужчина, о стихах, о книгах. Но если уж это так, я найду более интересных собеседников среди писателей, товарищей».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Книги похожие на "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах"
Отзывы читателей о книге "Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах", комментарии и мнения людей о произведении.