Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира
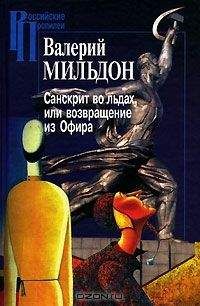
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Санскрит во льдах, или возвращение из Офира"
Описание и краткое содержание "Санскрит во льдах, или возвращение из Офира" читать бесплатно онлайн.
В качестве литературного жанра утопия существует едва ли не столько же, сколько сама история. Поэтому, оставаясь специфическим жанром художественного творчества, она вместе с тем выражает устойчивые представления сознания.
В книге литературная утопия рассматривается как явление отечественной беллетристики. Художественная топология позволяет проникнуть в те слои представления человека о мире, которые непроницаемы для иных аналитических средств. Основной предмет анализа — изображение русской литературой несуществующего места, уто — поса, проблема бытия рассматривается словно «с изнанки». Автор исследует некоторые черты национального воображения, сопоставляя их с аналогичными чертами западноевропейских и восточных (например, арабских, китайских) утопий.
«Высшая русская мысль есть всепримирение идей».[24]
Всепримирение может означать, что самые разные идеи обнимаются некою одной, включаются в нее, — то самое подчинение разнообразия единству, в котором именно разное исчезает, подвёрстывается под одно. Совсем не обязательно, что герой «Подростка» имел в виду такой смысл, однако подобное толкование, как видно из литературных русских утопий, не выдумка, вдобавок оно стало обыденной практикой, и не только по принуждению, а по необъяснимой (или плохо объяснимой) склонности миллионов людей, которые чувствовали себя спокойнее в однообразии.
В связи с высказыванием Версилова возникает вопрос: может быть, не надо все примирять, нужны лишь условия, сохраняющие каждому свое, благоприятные разному? Тогда не надо и мирить: свое найдет в другом необходимость собственного полного бытия, другое окажется частью своего. Хотя нельзя исключать, что «всепримирение» Версилова предполагает и такой смысл.
Большой соблазн, пользуясь частым в литературных русских утопиях образом сна, рассмотреть его в качестве существенной характеристики мироощущения, миропонимания, выразившихся в исследуемом жанре. Действительно, в литературных утопиях Запада сна меньше, герои как бы на самом деле участвуют в происходящем (есть, конечно, исключения: упоминавшийся роман Л. С. Мерсье, «На белом камне» А. Франса), в отличие от бездействующего — по условиям сна — русского литературного персонажа. Посмотрим с этой стороны на «Сон смешного человека».
«Сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!»
Вероятно двоякое отношение к образу сна. Благая жизнь лишь снится литературному герою, он грезит о ней вопреки неисправимо — пасмурной реальности. И если так много снов на одну тему, начиная от А. Сумарокова (как‑никак, сто двадцать лет перед Достоевским), не свидетельствует ли это о неком устойчивом стремлении, которому рано или поздно суждено реализоваться? Спрашивается не о самой счастливей жизни, а о стремлении, выраженном в образах сна о счастливой жизни. Известно, содержание сна не в его происшествиях, а в том, Что они могут означать. Сны русской литературной утопии намекают не на счастливую жизнь, а на то, что текущая не годится и от нее сле — дует избавиться. Как? Увидеть во сне настоящую, гласит ответ, предполагающий, что надо воздействовать не на реальность, послужившую, вероятно, источником сна, а на того, кто его увидел.
Имеется, однако, и другая версия. Действительность неисправимо дурна, в ней самой и ее средствами ее зла не победить, поэтому — следует, как я думаю, из образа сна в литературной русской утопии — должно переменить взгляд на мир. Это влечет за собой — страшно выговорить — необходимость изменений в национальных стереотипах восприятия, в архетипике.
Сон — та реальность, где сбывается чаемое, и в этом содержится ответ на вопрос, что делать? Менять не сложившиеся отношения, которые неизменны, иначе не снились бы с таким постоянством сны о другой реальности. Нужно добиваться, чтобы сон стал реальностью, а поскольку он снится лицу, то реальность должна быть таковою для лица, а не для народа, не для страны или человечества. Когда же, используя образ сна, предполагают перемены в жизни человечества, вольно или нет, ведут речь о переменах в явной действительности, а это равносильно тому, как если б добивались, чтобы всем людям на земле снился один сон, или сны должны исчезнуть. Кстати, так (или почти так) происходит в романе Е. И. Замятина «Мы»: сновидение считается знаком политической ненадежности, потому что индивидуализирует поведение человека, и герой, увидев сон, спешит обратиться к врачу.
Есть и еще взгляд (связанный с только что изложенным) на причины/значение образов сна в литературной русской утопии. Сон «признает» неизменность сложившихся отношений, бессмысленность упований на другое развитие. Выхода нет, и потому надежды следует возлагать на какой‑то иной тип бытования, внутри фатальных исторических и обыденных нравов. Этот взгляд не предполагает инверсий сознания, хотя и не отказывается от них, однако любые социальные проекты безусловно исключены.
В том и в другом случае «сон» обозначает совсем не то, что в нем происходит. Образы благой жизни, сближающие оба взгляда на сон — литературный прием, свидетельствуют, говоря обобщенно, неблагую жизнь; отсутствие веры в какой‑либо иной путь (допустимый разве что для индивидуального сознания, но и то лишь допустимый); отрицание таких социальных трансформаций, которые способны привести к индивидуальному благу, как раз по этой дороге, за несколькими исключениями, пойдет русская литературная утопия XX столетия.
Возвращаюсь к Достоевскому.
«Я вдруг<…>стал на этой другой земле в ярком свете солнечного прелестного, как рай, дня. Я стоял, кажется, на одном из островов, которые составляют на нашей земле греческий архипелаг<…>
Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега… Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета…»
Уже возникал вопрос, отчего так любят русские литераторы — утописты яркий свет. Рассказ Достоевского прибавляет новые аргументы к прежним. Яркого света, отчетливых картин, ясной логики так мало в нашей природе (и мышлении), обществе/истории, что устойчивым сделался пейзаж пасмурный, свет сумеречный, неотчетливый: нужно вглядываться, чтобы разглядеть. Возможно (только возможно) от этого зависит убеждение, будто бы мышлению русских свойственно интуитивное догадывание внезапные озарения, а не последовательно — неуклонная логика ясных и бесспорных результатов.
Оптический мир, в котором мы все живем (мир — это, повторяю, и психология, и социология, и — хочется или нет — история), не богат ни яркими красками (вспышки контрастов не в счет), ни их разнообразием. Перечитаем русскую поэзию от Пушкина до Блока — чаще встречается оптика неотчетливая, ей нельзя доверять, нужна постоянная проверка впечатлений. Стоит зазеваться — и вся жизнь пошла иначе. Но — и в этом особенность и нашей оптики, и — главное — психо- и гносеологических выводов из нее — если и не зазеваешься, если собран, внимателен и пр., все равно жизнь идет иначе, нежели ты предполагал или хотел, ради какового хотения не давал себе потачки и строго следил за всем вокруг себя и в себе самом. Следи не следи: не ты первый, не ты последний. С одной стороны, психология фатализма: плетью обуха не перешибешь; а с другой — бесшабашная отвага, презрение ко всякому расчету, сулящему выгоду: хоть час, да мой; двум смертям не бывать, одной не миновать.
И все же, столкнувшись с картинами яркого дня, теплой и благодатной погоды, смекаем: не наш пейзаж, а заморский, не родимая сторонка. Свет, изобилие красок, мягкость воздуха в литературной русской утопии — знак иного места. Уж кажется, М. М.Щербатов с его арктическими льдами, и то не удерживается: во — первых, санскрит, во — вторых, за полярным кругом его романа не чувствуется именно холода.
В ином месте и люди, разумеется, иные. Вот какими предстают они в «Сне смешного человека»:
«Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них: точно они говорили с подобными себе существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их».
Этот разговор с деревьями неожиданно напоминает зловещий афоризм Базарова: «Люди, что деревья в лесу». Конечно, если люди — Деревья, описанное Достоевским отношение естественно, хотя акценты в его рассказе совсем не те, что у Базарова. Однако запас впечат — лении один, независимо от того, что из этих впечатлении созидаются непохожие образы. И не только «назад» от рассказа Достоевского идут «древесные» ассоциации. В 1933 г. Н. Заболоцкий написал поэму «Деревья». Начинается она обращением героя к физическому миру природы, который отвечает ему разными голосами. Среди его собеседников и деревья: «Будьте моими гостями!» Деревья приходят.
И стол накрыт, и музыка гремит,
И за столом лесной народ сидит.
На алых бархатах, где раньше были панны,
Сидит корявый дуб, отведав чистой ванны,
И стуло греческое, на котором Зина
Свивала волосы…
Теперь согнулося: на нем сидит осина.[25]
Сопоставление деревьев Достоевского и Заболоцкого, вероятно, приоткрывает смысл и обоих произведений. Герои каждого, как и подобает герою литературной утопии, заняты поиском «земли Офирской». Здесь нужно напомнить об одной черте, свойственной русской литературной утопии. Страницы, где говорится о политических и социальных преобразованиях, дышат надеждой на исполнение проектов, на достижение благодетельного места. Но эта надежда реализуется с помощью таких образов, что видна полная неосуществимость всякого проекта. Примером может послужить только что упомянутый Н. Заболоцкий, о котором скажу в свое время, сейчас же несколько беглых наблюдений, свидетельствующих то самое невольное для автора неверие в им же самим воссозданные картины благодатного существования. Поэма «Торжество земледелия» (1928–1930) заканчивается словами:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Санскрит во льдах, или возвращение из Офира"
Книги похожие на "Санскрит во льдах, или возвращение из Офира" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерий Мильдон - Санскрит во льдах, или возвращение из Офира"
Отзывы читателей о книге "Санскрит во льдах, или возвращение из Офира", комментарии и мнения людей о произведении.
























