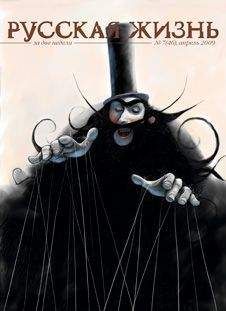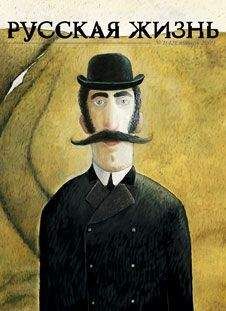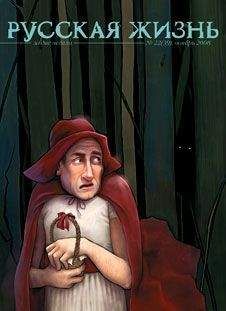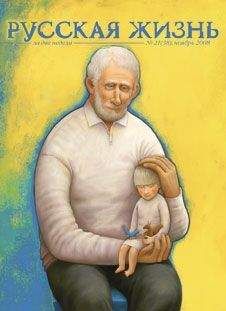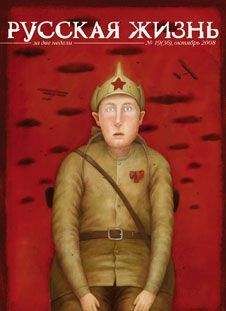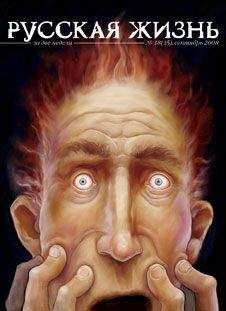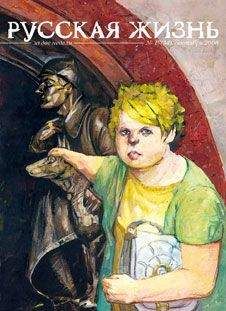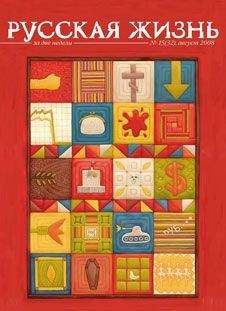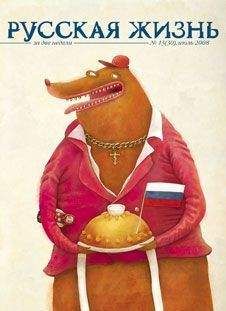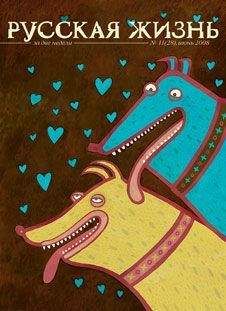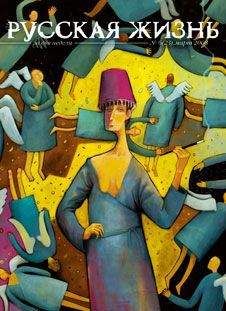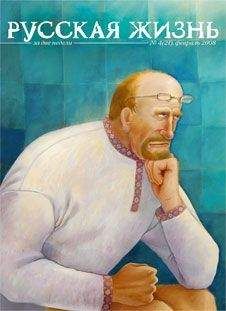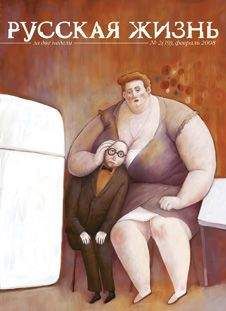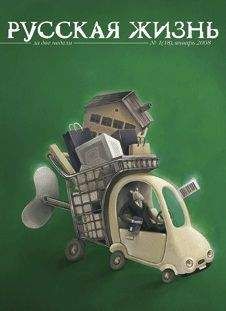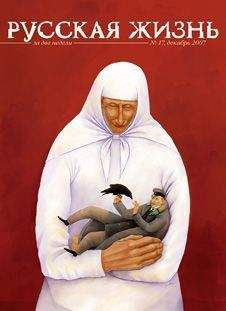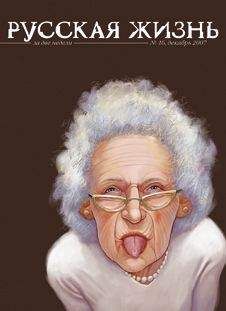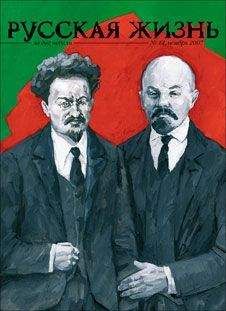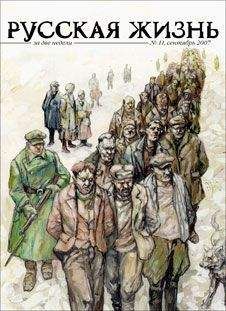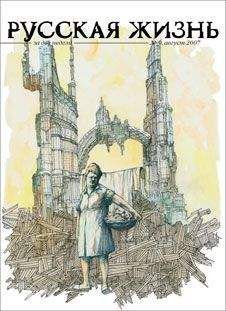Валерия Пустовая - Матрица бунта
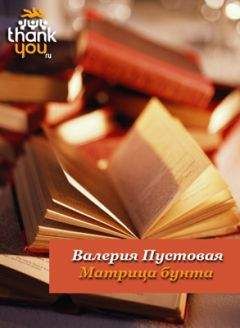
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Матрица бунта"
Описание и краткое содержание "Матрица бунта" читать бесплатно онлайн.
Сборник статей, посвящённых литературному процессу, новым книгам и молодым, многообещающим авторам. В галерее литературных портретов Валерии Пустовой — Виктор Пелевин, Андрей Аствацатуров, Слава Сэ, Сергей Шаргунов, Марта Кетро, Елена Крюкова, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, Владимир Мартынов, Олег Павлов, Дмитрий Быков, Александр Иличевский, Захар Прилепин, Павел Крусанов, Дмитрий Орехов, Илья Кочергин, Дмитрий Глуховский, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, Ольга Славникова и другие писатели.
Следуя поверхностной логике светской, культурной религиозности, Прилепин трактует Христа исключительно страдательно (не случайно кодовое упоминание этого имени в сцене избиения Саньки: «Даже Христа не раздевали, гады вы») — как образ жертвы, а не победителя мира, с акцентом на казнь, а не на воскресение. Но страдательная правда, как мы уже выяснили, маркирована заведомой неправотой поражения. А значит, чтобы выжить и победить, нельзя опереться на Христа — надо вернуться во времена до Рождества: «До Христа — то, что было до Христа: вот что нужно. Когда не было жалости и страха. И любви не было. И не было унижения… Сержант искал, на что опереться, и не мог: все было слабым, все было полно душою, теплом и такой нежностью, что невыносима для бытия. Откуда-то выплыло, призываемое всем существом, мрачное лицо, оно было строго, ясно и чуждо всему, что кровоточило внутри. Сержант чувствовал своей лобной костью этот нечеловеческий, крепящий душу взгляд… <…> — Ты чего увидел? — спросил Самара. — Сталина, — ответил Сержант хрипло, думая о своем. <…> — Все нормально. Собирай посты. Пошли охотиться» («Сержант»).
В не разрешенной оппозиции земного и небесного коренится раздвоение духовных основ. Подобно тому как рядом с Христом встает образ Сталина, так священные книги оттеняются статистикой («Я доверяю только священным книгам и статистике» — эссе «Жизнь удалась или еще раз о вечном»), упование на Бога — опорой на инстинкт («От превращения в зверя нас никто не спасет кроме Бога. Но для того, чтобы нас не превратили в зверей другие, чужие нам, — нам нужен только мужской инстинкт. Его надо беречь», «нас ничто не защитит от новых времен, кроме инстинкта и веры» — эссе «Нам не в чем будет себя упрекнуть»), молитва — властью убивать («Иван Грозный убивал. И еще он молился, отмаливал и замаливал, и сочинял музыку, пока в Европе пошлые правители резали младенцев и жгли женщин, и никогда не стыдились этого…» — «Я пришел из России»), нательный крестик — снайперской винтовкой («У нас снайпер был. Иногда нательный крестик клал в рот перед выстрелом. Говорил, помогает» — «Санькя»). Революционная прагматика игнорирует универсальность принципа «не убий», оправдывая грех пользой дела: «Почему здесь живут такие злые люди? Если бы они не были такие злые, их бы никто не убивал» («Санькя»). Вряд ли по недосмотру, но в любом случае показательно в гимн мужеству героя прокрадывается словно бы вывернутая аллюзия на постулат проповеди Христа: «Ни один человек класса с седьмого его не обидел. Саша иногда вспоминал: может, забыл он хоть одну обиду, простил кого напрасно» («Санькя»). Таким образом, призывая радоваться жизни «с умом и тактом пред Божественной логикой» (эссе «Больше ничего не будет (Несколько слов о счастье)»), Прилепин не задумываясь подламывает эту логику под практические задачи выживания.
Но «Божественная логика» зиждется на идее вечности. Тогда как природная — оказывается ветхой опорой, в себе самой заключая единственный контрдовод: тлен. Циклическая возобновляемость, вечное возвращение — вот единственный образ бессмертия, который заложен в тварном мире и которому в человеке сопротивляются начала единичности и творчества — личностные начала. Чтобы снять мучительный разлом между упованием на земное и сознанием его мимолетности, Прилепин решается выключить этот личностный — сверхприродный, духовный, бессмертный — план в человеке. «Душа должна рассосаться совсем, оставив только рефлексы, управляющие телом, — вот рецепт окончательного счастья», — иронизирует И. Фролов[46] над эволюцией прилепинского героя.
Герой. Исходник, из которого лепится впоследствии герой Прилепина, запечатлен в его дебютном романе о чеченской войне «Патологии». В образе Егора Ташевского выражено сознание частное, антигероическое — это принципиально не-воин в ситуации войны. Взаимоотношения с девушкой его пока волнуют сильнее отношения к Родине, а проблема выживания перевешивает задачу пестования мужественности. Именно такое сознание становится источником специфической образности «Патологий», отражающей взвинченную впечатлительность человека в условиях, противных его человечности. Герою «ежесекундно мнится», и в этой некрепости нервов есть только непосредственность чувства, еще не придавленного мифостроительным напором более поздней прилепинской прозы.
Акцент на непосредственности делает в своей интерпретации Прилепина и Д. Быков. В предисловии к сборнику «Грех» он противопоставляет героя Прилепина, «которого переполняет обычное счастье жить, любить, творчески самоосуществляться, наслаждаться собственным здоровьем, силой и остротой восприятия», — «классическому» персонажу «нашей пасмурной литературы», который страдает «от того, что у него все есть», и которому «становится кратковременно хорошо» только «вследствие обретения спасительной социальной идеи, она же панацея от всего»[47]. Но в том-то и дело, что Быков описывает тут не состоявшегося Прилепина. В полном соответствии с радикальной традицией русского интеллигентства, его герой бежит от непосредственного наслаждения жизнью, потому что его личное счастье не полно без исправления внеличного контекста.
Частник, взявшийся играть государственника, человек с семейными ценностями, принявший позу воина, герой Прилепина становится жертвой «панацеи»-идеи.
В эссеистике Прилепина это соответствует переключению с личного жизнестроения: «Вышел и расплакался… <…> И написал жене sms, что мир вокруг нас преисполнен такой невыносимой на вкус печалью и горестью, что всем у нас просто нет иного выбора, чем бесповоротно и навек приговорить к счастью хотя бы самих себя. Пока мы в силах. Пока мы в разуме. Пока мы вместе» («Больше ничего не будет (Несколько слов о счастье)»), — на идею глобального переустройства: «А что ты имеешь против прелестных уголков и нормальной человеческой жизни, спросят меня. <…> Достала любовь к малой Родине. Невыносимо надоела теория малых дел. Я сделал все малые дела <…>. И что? И где результаты в моей большой Родине? Сдается, пока я делаю свои малые дела, кто-то делает в противовес мне свои большие, и вектор приложения сил у нас совершенно разный. <…> Хочется большой страны, больших забот о ней, больших результатов» (эссе «Маленькая любовь к маленькой стране»).
Так женственные мотивы любви и очага, деторождения и пола, сладких обид и тайн двоих подминаются брутальным сапогом социальной программы. Так «редчайший», по выражению Быкова, образ счастья в прозе Прилепина трансформируется в традиционное страдание «нашей пасмурной литературы», а бездумный, непосредственный герой решается на принципиально идейное самоосуществление. «Никто не жил — все делали <…> общественное дело»[48], «героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника <…>, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа»[49], — приходится в пору актуальному Прилепину старинная «веховская» тема.
Писатель Захар Прилепин, как и его герой Захар, возникают на преодолении частного человека в позе воина. Ломка героя — сквозной сюжет его, как повелось выражаться, брутальной прозы. Рассказы «Сержант», «Жилка», финал рассказа «Шесть сигарет и так далее» показывают бегство героя из трепетного счастливого мира семьи в долю сурового воина, неуязвимого для человеческой печали о бренности счастья и хрупкости жизни. Мужество героя Прилепина неизменно оказывается связано с подавлением человеческого в себе. Он будит в себе зверя, атакуя «через не хочу» («Санькя»), смакует чужую, животную смерть до отключения «человеческого рассудка» («Грех»).
Очередное частотное словечко выражает сентиментально-героический пафос такого надлома: «жилка». «Жилка», давшая название и одному из программных рассказов Прилепина, обозначает последнее-человеческое, не затронутое в герое идейной перековкой. По трепету «жилки» автор определяет остатки человечности в герое-воине: «сбили жилку жалости», «смутная жилка дрожала слабо», «ни одна жилка не дрогнула» («Санькя»), «надорвать последнюю жилку», «только одна жилка живет на нем и бьется последней теплой кровью», «на этой жилке все держалось, на одной» («Жилка») (сравним с еще совсем не идейным применением слова в «Патологиях», где оно передает естественную дрожь героя перед роком войны: «что-то внутри, самая последняя жилка, где-нибудь бог знает где, у пятки, голубенькая, еще хочет жизни»).
«Поиск самосознания, внутреннее домостроительство героя» видит А. Рудалев в истории «мучительного перерождения» Саши Тишина из романа «Санькя»[50]. Однако в свете стержневого пафоса прозы Прилепина в образе Саши Тишина обнаруживается подлом самосознания под позу, прагматически соответствующую нуждам революционной борьбы. Задача «внутреннего домостроительства» чужда герою даже принципиально: ведь он намерен «спастись», «поедая собственную душу», — в этом выражении виден след мирской интерпретации христианского мотива потери души для Господа. Жертва принесена — но правде, предельно далекой от евангельской. Снова, как повсеместно у Прилепина, мы наталкиваемся на узнаваемое культурное переживание — «религиозной веры, только наизнанку»[51].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Матрица бунта"
Книги похожие на "Матрица бунта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерия Пустовая - Матрица бунта"
Отзывы читателей о книге "Матрица бунта", комментарии и мнения людей о произведении.