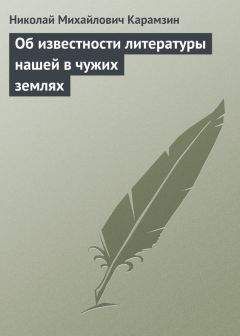Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Описание и краткое содержание "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век" читать бесплатно онлайн.
Книгу известного литературного критика Натальи Борисовны Ивановой составили очерки о литературе последних лет. Рассказывая о движении и взаимодействии различных литературных сил автор выявляет линии развития русской словесности после обретения ею бесцензурной свободы. Размышления критика вписаны в хронику современной литературной и общественной жизни, в конкретный общекультурный контекст конца XX — начала XXI веков. Книга насыщена как известными, так и мало знакомыми именами и фактами литературной и общественной жизни. Среди персонажей книги такие классики русской литературы, как В. Астафьев, Д. Солженицын, В. Маканин, а также ставшие известными только к концу XX пека писатели Д. Пригон, Т. Толстая, Э. Лимонов и многие другие. Автору книги удалось показать развитие современной словесности в непростое и полное конфликтов и противоречий время, осмыслить путь нашей литературы в контексте глобальных политических перемен в нашей стране.
Если у Петрушевской надо было процитировать «начала», чтобы показать особенности поэтики ее «случаев», то в поэтике Толстой чрезвычайно характерны «концы».
«Чумные кладбища засыпаны известью, степные маки навевают сладкие сны, верблюды заперты в зоопарках, теплые листья шелестят над твоей головой — о чем?» («Спи спокойно, сынок»).
«И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку на угол, на юг, на немыслимо далекий, сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне» («Милая Шура»).
Голос Веры Васильевны в финале рассказа «Река Оккервиль» несется «над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки».
Романсовая мелодия почти обязательно возникнет в финале. Если Петрушевская транспонирует поэтику жестокого романса, то Толстая — традиционного русского романса. Цитаты «прослаивают» ее текст, в котором романсная «пошлость» прошлого (засохшие, выцветшие цветы, письма, шляпки с вуальками, фотографии, полуразбитые пластинки, граммофоны), хотя растаптывается ублюдочной пошлятиной настоящего, но, словно заново родившись, «взмывает» в финале. Если в поэтике Петрушевской бытовая лексика минимализируется то у Толстой, напротив, она избыточна: так, к определению звучания голоса Веры Васильевны перебираются, наслаиваясь друг на друга, семь — один другого роскошнее эпитетов. Как на «блошином рынке», Толстая не может оторваться от любования вещью, в которой отпечатан ушедший, забытый, истоптанный, отброшенный взрывной волной настоящего быт.
Самыми слабыми рассказами у Толстой являются те, где она, словно спохватываясь, выстраивает морализирующую схему («Охота на мамонта»), а самыми сильными — те, где, не заботясь о «поучении» и «нравственном итоге», она пытается задержать, остановить, вытащить, отмыть, встряхнуть, возродить вещь, непонятными, но крепчайшими узами связанную с отлетающей жизнью.
В рассказе «Соня» некрасивая героиня, одевающаяся подчеркнуто безобразно, не расстается с брошкой эмалевым голубком, наипошлейшей, можно сказать, пошлостью. «В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные костяного цвета зубы, и любовь к детям, причем к любым, все это характеризует ее вполне однозначно». Красавица Ада (заметим еще один «след» поэтики романса в прозе Толстой: обязательные экзотические, «красивые» имена — Ада, Изольда, Тамила) придумывает для бедняжки Сони загадочного воздыхателя, «безумно влюбленного», и переписку, в которой тот предлагал «в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде».
И Соня посылает несуществующему «ему» в ответ свою единственную и главную ценность — белого эмалевого голубка. Соня умирает в блокаду, и ничего не остается от ее жизни — как и от жизни других, щедро тративших себя, даривших свою фантазию другим героинь. «Так, одни угольки», горстка праха, или, по названию одного из рассказов, «огонь и пыль». Все сожжено. «Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она (Ада. — Н. И.) должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет».
Прямая, открытая параллель с булгаковским — «Рукописи не горят», — отмеченная культурологом Светланой Бойм (Гарвард) на советско-американской конференции в Нью-Йорке (март 1991-го). Да полноте, — можно ли сравнивать какую-то старую романтическую дуру с голубком — и Мастера с его бессмертным романом?
Оказывается, можно.
Потому что наипошлейший Сонин голубок концентрирует в себе энергию любви и сострадания, на высших весах перевешивая гремящую фанфарами «поэзию труда и подвига», на которую обрекала человека и власть, и прислуживавшая ей литература.
6«Рукописи не горят»…
Вот и вернулись мы туда, откуда начали, — в надлом человечности, выразившийся в неприятии «пошлости» и «банальности» в революционное и постреволюционное время.
А теперь о том, с чего началась эта статья. Появление искусства, «мстящего лицемерам», — неожиданное возникновение внутри «высокой» культуры «низовой», пробивающей себе дорогу отнюдь не только в разгуле «масскульта», но и в поэтике, построенной на игре с китчем (кинематограф Киры Муратовой, живопись Л. Звездочетовой, В. Комара и Л. Меламида, поэзия Д. Пригова, Т. Кибирова; возникновение группы «куртуазных маньеристов»…). Советская культура всегда пыталась выставить «низовую» за дверь, но она упрямо влетала в окно, занимая души и сердца миллионов наших сограждан, украшающих свои бедные жилища не плакатами с усатыми рабочими и партийными функционерами, а картинками с котятами, фарфоровыми собачками, ковриками с бровастыми оленями и свинюшками-копилками. И сегодня эту «низовую» культуру — жестоких и цыганских романсов, картинок из-под конфет с бумажными кружевами, зайчиков и плюшевых мишек — новая поэтика внимательно рассматривает, ища в ней не столько новую эстетику, сколько изуродованную, но выжившую человечность. В фильме К. Муратовой «Астенический синдром» толстая мамаша в цветастом байковом халате, съев тарелку щей, вынимает золотой саксофон и играет на нем прекрасную мелодию (звучащую поистине странно — в комнате, завешенной кричащими ковриками, тесно заставленной пошлой мебелишкой). И мелодия взмывает к небу — так же, как мелодии романсов в прозе Татьяны Толстой.
Прозу Л. Петрушевской и Т. Толстой наша литературная критика, упорно тяготеющая к поискам «культурных гнезд», зачислила по ведомству «другой литературы» — вкупе с прозой Вен. Ерофеева, Е. Попова, В. Пьецуха или С. Каледина (у каждого из критиков список варьируется). Я полагаю, что от «другой» прозы эта проза качественно отличается своим пессимистическим артистизмом (или — артистическим пессимизмом, можно и так.)
Это не «чернуха» С. Каледина, Л. Габышева или А. Терехова — центральный жанр авторов «перестроечной» прозы, простодушно полагающих, что выразительность самой действительности не нуждается в добавочных эстетических приемах.
Это не «жанр маразма» — рассказов и повестей Е. Попова и В. Пьецуха, с их «героями-мудаками», по верному определению М. Эпштейна; писателей, тяготеющих, скорее, к сюрреализму, иронически использующих цитаты хрущевско-брежневского периода как некий общий китчевый «совковый» текст.
Это не соединение нашей повседневности с космическими процессами, не поиски глобальной, мистической зависимости, идущие еще от А. Платонова («Над Россией стояла глубокая революционная ночь» — «Чевенгур»).
Главной темой прозы Л. Петрушевской и Т. Толстой становится смерть: не случайно один из последних циклов, опубликованных в «Литературной газете», Петрушевская назовет «Реквиемы», и не случайно погибают, умирают, вымирают в финале почти все герои (героини) Толстой. Вымирают — или спят, дремлют наяву, впадают в летаргию (мотив снов и сновидений — один из центральных у Толстой).
Кинокритик Д. Попов в разборе фильма К. Муратовой («Искусство кино», 1990, № 3) определил состояние социальной агонии общества, изображенного в «Астеническом синдроме», как «клиническую смерть». «Эсхатология Муратовой… карнавальна, абсурдистски вывернута, — замечает критик. — …Выморочный быт становится страшнее смерти».
И у Петрушевской — особенно в пьесе-рассказе «Изолированный бокс», где по очереди выговаривают себя две раковые больные, — быт тоже страшнее смерти: «Тридцать пять лет только дают лежать на кладбище, потом ликвидируют. Только Марусю к нам вложат, опять перетасовка. Бульдозером сровняют с лицом земли. Новостройку построют, храм Спаса-на-костях».
На каком языке это может быть выражено, кроме языка китча?
7И наконец, последнее, и, может быть, самое главное.
В дневнике К. Чуковского (за 1921 год) описано посещение крематория. Посещение не в связи с кончиной близкого человека — оно предложено для общего интереса и даже… «развлечения» (вспоминается «Бобок» Достоевского — «хотел развлечься, попал на похороны»). «"А покойники есть?" — спросил кто-то… Созвонились с крематорием, и оказалось, что, на наше счастье, есть девять покойников».
Неотделанное здание с «колоссальными претензиями», мрамор вперемежку с кирпичом, арки из… дерева (тоже — гротеск, хотя и архитектурный). Печь. Газ. «Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Книги похожие на "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Иванова - Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век"
Отзывы читателей о книге "Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век", комментарии и мнения людей о произведении.