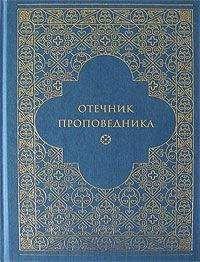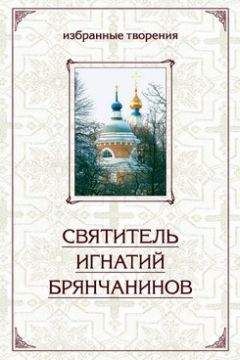Алексей Сидоров - У истоков культуры святости

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "У истоков культуры святости"
Описание и краткое содержание "У истоков культуры святости" читать бесплатно онлайн.
Новая книга профессора Московской Духовной Академии А. И. Сидорова является продолжением его предшествующих работ: «Творения аввы Евагрйя», «Творения древних отцов–подвижников», «Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества» и др. В обширной вступительной статье прослеживаются основные этапы развития древнего иночества и рассматривается процесс становления монашеской письменности, а также ее характерные черты и своеобразное место в обширной сокровищнице святоотеческой литературы. Далее следует перевод четырех творений: «О девстве или о подвижничестве», «Послание епископа Аммона об образе жития и отчасти о жизни Пахомия и Феодора», «Жизнь и деяния святой и блаженной учительницы нашей Синклитикии» и сочинения аввы Евагрйя «О помыслах», каждое из которых являет собой как бы кристаллизацию отдельных частей неисчерпаемого духовного опыта и обильной духовной мудрости древних подвижников. Все переводы снабжены подробными комментариями, позволяющими читателям лучше понять глубину этого оцыта и этой мудрости.
Что же касается содержания «Истории монахов», то почти все исследователи отмечают простоту и беспретенциозность его. Таю И. Троицкий, сравнивая этот памятник с «Лавсаиком», говорит: «В самих повествованиях о различных подвижниках личности самого автора совершенно не видно из–за описываемых событий: он скрывается от нас, пря–чется>ρ толпу; «видели мы» такого–то подвижника, видели и другого удивительного, мужа с таким–то именем, пришли туда–то. И это постоянное однообразное безлично–собирательное «видели мы» продолжается через всю книгу от начала до, конца, являясь как бы спасительными ширмами для смиренно–боязливого. автора. Он всецело и неизменно стоит на строго–исторической почве объективности и безличия. Он держится как будто в стороне от описываемого и только издали наблюдает и прислушивается. Сам лично он как будто бы и не говорил ни с кем из подвижников, которых он посетил вместе с другими, а только присутствовал при разговоре других. Итак, он не оставил здесь своих следов; и история совершенно не знает его, или забыла его»[299]. Вместе с тем, именно подобное смирение, и даже самоуничижение, автора (а, точнее, компилятора) позволяет ему точно отобразить жизнь и внутренний настрой древних иноков, что делает «Историю монахов» ценнейшим памятником, освещающим начальный этап развития монашества и становления православной духовности. Однако вряд ли следует отождествлять подобное авторское смирение с безликостью, ибо личность создателя сочинения проявляется в подборе материала, компоновке его и в ясно выраженной мировоззренческой тенденции, определяющей данную подборку и компоновку. Эта тенденция находит свое концентрированное выражение в цели, имея в виду которую и создавалось произведение: назидательности, что опять роднит «Историю монахов» с «Лавсаиком». По характеристике того же И. Троицкого, в анонимном сочинении «должно видеть только ряд нравственно–назидатель–ных повестей, а не какое–либо чисто–историческое произведение и даже не ряд биографий некоторых особо известных тогда лиц. Указанные нравствен–но–учительные стремления автора заставляли его идти совершенно самостоятельной дорогой — что называется — не уклоняясь ни надесно, ни налево в упомянутом смысле; т. е. как из жизни како–го–либо подвижника автор выбирает только то, что могло доставить какое–нибудь, назидание, или достоподражательный пример, так и история, не составляя для него предмета специальных забот, является в его произведении только в качестве неизбежной обстановки, внешней формы, или некоторой рамки, в которую вставлены и смотрят на нас портреты и аскетические фигуры подвижников Египта»[300]. Но именно. такое постоянное попечение о духовной пользе читателей, вкупе с безыскусственностью изложения, сделало на протяжении веков «Историю монахов» любимым чтивом для многих и многих тысяч христиан самых разнообразных национальностей и самого различного социального положения.
Безусловно, названными выше авторами и их сочинениями отнюдь не ограничивается вся древнемо–нашеская письменность периода своего первого расцвета. Большой интерес, например, представляют два произведения (Стефана Фиваидского и Ипере–хия), которые можно отнести, с некоторой долей условности, к жанру древнецерковных «учительных книг»[301]. Не менее интересным памятником является и «Житие святой Синклитикии»[302]; хотя это «Житие» иногда приписывается св, Афанасию Великому, оно вряд ли принадлежит ему: против такой атрибуции, помимо внутренних свидетельств сочинения (стиля, терминологии и пр.), говорит то, что манускрипты надписываются и другими именами (Поликарпа й некоего Арсения Пегада). Датируется оно либо концом IV—началом V вв., либо серединой V в., и напи сано, несомненно, в Египте[303]. Примечательной чертой данного произведения является то, что оно представляет собой не столько «Житие» в узком смысле этого слова, сколько аскетический трактат (вероучитель–ная часть его занимает 81 главу из общего количества 113 глав), причем терминология этого трактата обладает несомненным сродством с терминологией Евагрия Понтийского[304]. Влияние «Жития» на православную аскетику прослеживается вплоть до наших дней[305]. К более позднему времени следует отнести литературную деятельность блаж. Диадоха Фотикий–ского (ок. 400–486 гг.)[306]. Возможно, участник Халки–донского Собора и полемист против монофизитов (также, впрочем, как и против мессалиан), он запечатлел в своих творениях (особенно, в «Гностических главах») сущностные черты древнецерковного аскетического богословия[307]. Опыт египетской пустыни, в которой, предположительно, блаж. Диадох некоторое время подвизался, и ее великих старцев оказал определяющее влияние на его миросозерцание: в своих сочинениях–он органично соединил многие лучшие черты богословского наследия преп. Мака–рия Египетского и Евагрия Понтийского [308]. Во многом близок блаж. Диадоху и преп. Марк Подвижник, который, по выражению одного русского ученого, «имеет преимущественное значение, как автор суждений о телеологии аскетизма, раскрывающий понятие о духовном субботствовании подвижничества»[309]. Личность и обстоятельства жизни этого церковного писателя покрыты густым туманом неизвестности, а потому иногда говорят о «загадке Марка»[310]. Впрочем, его активная полемика с мессалианством и нестори–анством предполагает, что он жил и творил в V в.;. скорее всего в первой половине этого века[311]. Не лишено вероятности и предположение, что этот святой отец был тесно связан с преданием и аскетическим богословием египетских старцев IV в., возможно подвизаясь определенное время на родине монашества[312]. Во всяком случае, сильный акцент на значении таинств крещения и покаяния в духовной жизни сообщает аскетике преп. Марка ярко выраженный «экклесиологический колорит»[313], что роднит его творения с лучшими произведениями древнеегипетских отцов–подвижников. Впрочем, не исключается возможность, что основным географическим ареалом жизни и подвигов преп. Марка была Малая Азия[314]. Но какую бы из этих гипотез не принять, несомненным является тот факт, что творения данного подвижника входят в «золотой фонд» святоотеческой аскетики.
Несомненную важность представляет и становление монашеской письменности на латинском Западе, которое требует особого и тщательного исследования. Предварительно можно только отметить, что если сочинения св. Амвросия, посвященные девству[315], целиком и полностью относятся еще к эпохе древнехристианского аскетизма, то ряд произведений блаж. Иеронима можно отнести уже к собственно монашеской литературе. Это касается прежде всего его «Житий» (свв. Павла Фивейского, Илариона, монаха Малха), но также и некоторых посланий[316]. Можно отметить, что, как и все миросозерцание, так и аскетическое богословие блаж. Иеронима развивалось под значительным влиянием Оригена[317], хотя сравнительно рано он стал дистанцироваться от некоторых идей александрийского «дидаскала» (например, от его учения об «апокатастасисе»)[318]. Если же обратиться к блаж. Августину, то можно констатировать, что значительную часть его творений следует причислить к аскетической и монашеской письменности[319]. Причем, лишь немногие произведения этого западного отца Церкви посвящены «богословию монашеской жизни»[320]; значительно большее количество аскетических творений его касаются проблемы целомудрия, и они, по суждению одного русского патролога, суть «самые важные в древне–отеческой письменности труды по обстоятельности, широте, глубине и систематичности решения вопроса о браке и девстве»[321]. Например, одно из этих творений, под названием «О благе супружества», четко расставляет нужные акценты в решении данного вопроса: считая и супружество, и воздержание благом, блаж. Августин подчеркивает, что последнее есть благо большее[322]. В других сочинениях аналогичного жанра он также стремится соблюсти таковые должные акценты и идти в решении этой деликатной проблемы «средним царским путем».
К становлению монашеской письменности на латинском Западе имеют непосредственное отношение и еще две выдающиеся личности, связанные узами дружбы: уже упоминавшийся Сульпи–ций Север и Павлин Ноланский. Первый, вдохновленный примером своего друга Павлина и получив благословение св. Мартина, покинул суету мира и в своем поместье Примулак основал монастырь, имея образцом для него обитель Мармутье[323]. Став монахом, Сульпиций остался и «книжником», и писателем. Особо выдающуюся роль в становлении западной монашеской письменности он сыграл не только своим знаменитым «Житием святого Мартина» (к которому следует присовокупить и два послания, запечатлевших дополнительные штрихи образа галльского святого), но и «Диалогами», где ясно намечается типологическая и историческая связь между египетским и галльским иночеством [324]. Кстати сказать, Сульпиций Север, будучи другом 'как блаж. Иеро–нима, так и Руфина Аквилейского, весьма скорбел об их разрыве во время «оригенистских споров». Сам неплохо зная сочинения Оригена* Сульпиций Север Я споре занял среднюю позицию: проводя различие между понятиями «заблуждение» и «ересь», он считал, что Ориген иногда склонялся к заблуждению, но никогда не впадал в ересь; хотя в его произведениях порой встречаются неправомысленные взгляды, но преобладают в них все же прекрасные мысли[325].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "У истоков культуры святости"
Книги похожие на "У истоков культуры святости" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Сидоров - У истоков культуры святости"
Отзывы читателей о книге "У истоков культуры святости", комментарии и мнения людей о произведении.