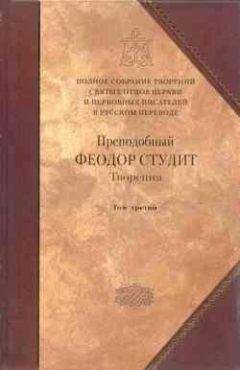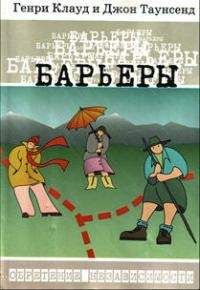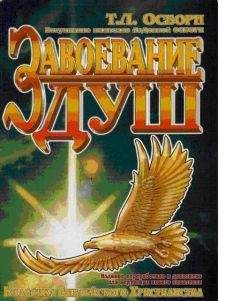Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века — XII–XIV, от последних десятилетий перед монголо–татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо–Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по–иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко–панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах — святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, — два парадоксальных (хотя и по–разному) святых — «чужой свой» Антоний Римлянин и «святой еретик» Авраамий Смоленский, относящиеся к до татарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает «ненавистную раздельность мира», преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.
Не погубимь, братья, величая нашего.
… не таковъ же ли человекъ, яко же и ты?
Как уже говорилось ранее, для более полной и глубокой оценки первого «слова» Серапиона существенно знать его хронологию — до или после татарского нашествия на рубеже 30–40–х годов XIII века. В зависимости от этого по–разному трактуется подавленность конкретно «татарской» темы, хотя однажды в этом «слове» упоминается о «немилостивом народе». Если это первое «слово» действительно было произнесено до татарского нашествия, то неназывание татар (явное) вполне естественно, если же после, — то это могло объясняться в известной степени или самоцензурой, или акцентом на своих русских «внутренних» болезнях, или и тем и другим вместе. Но поскольку окончательного ответа относительно времени создания «слова» нет, приходится смириться с необходимостью известной неопределенности, затрудняющей лучшее понимание внешнего контекста этого «слова».
Как и другие «слова» Серапиона, первое «слово» достаточно кратко, и его единственная тема — покаяние, тем более необходимое перед лицом страшных природных явлений, обрушившихся на Русь. С самого начала чувствуется, что Серапион — опытный проповедник и учитель, знающий и психологию паствы, к которой он обращается, и лучший способ достижения выдвигаемой им перед нею цели. Он не приказывает, не умоляет и как бы даже не просит, но передает слово Господу, а сам же в развитие этого слова ставит вопросы, которые должны заставить людей задуматься над происходящим и самим сделать свой выбор. И даже не заставить, а сделать так, чтобы они сами с помощью слова Господнего и сопровождающего его разъяснения поняли зависимость между грехами своими и претерпеваемым бедствием, пережили это новое для них знание в той степени, когда пробуждается совесть, и именно она становится главным императивом к принятию нужного практического решения. Напоминание в первой же фразе поучения о слове Господнем, повторенном и/или дополнительно разъясненным Евангелием, апостолами, пророками, великими святителями — Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и другими, ими же вера оутвержена бысть, еретици отгнани быша, и те оучаще ны беспрестани, а мы — едина безаконья держимся, преследует двуединую цель — напомнить о самом весомом аргументе и об игнорировании его, пренебрежении им. Рамка начальной части первого «слова», вмещающая всё сказанное только что, такова: Слышасте, братья, самого Господа, глаголяща […] — а мы — едина безаконья держимся! И это — несмотря на то, что оучили ны беспрестани, предупреждали (предупреждение оформлено как своего рода «соборная» цитата) — «И въ последняя лета будет знаменья въ солнци, и в луне и въ звездахъ, и труси по местомъ, и глади» [208]. Такое бывало и раньше, во дни Христовы, но тогда люди уразумевали смысл зловещих знамений и открывали для себя истину, которой в дальнейшем следовали [209], а мы — едина безаконья держимся, несмотря на то, что уже были — и только что или во всяком случае недавно — очевидцами страшных знамений: Се оуже наказаеть ны Богъ знаменьи, земли трясеньемь его повеленьемь: не глаголеть оусты, но делы наказаеть. И что же изменилось? — Ничего: Всемъ казнивъ ны, Богъ не отьведеть злаго обычая. Ныне землею трясеть и колеблеть, безаконья грехи многия от земля отрясти хощеть, яко лествие от древа.
Как человек, умеющий читать в душах людей, Серапион предвидит типичное для русского человека возражение — что–нибудь вроде того, что и раньше такое бывало, и все–таки живем себе как–никак [210]. Ответ на это прост — тем более возражающие и сами знают его, но как бы для преодоления собственной инерции нуждаются в том, чтобы кто–то иной, обладающий более высоким авторитетом, духовный отец их еще раз напомнил им об уже известном с тем, чтобы пробудить их волю к решению, требующему действий. Серапион, предвидя всё это, идет им навстречу: рку: «Тако есть [согласие с возражающими или скорее уклоняющимися от сути проблемы. — В. Т.], но — что потом бысть намъ? Не глад ли? Не морови ли? Не рати ли многыя?»
И далее — как бы почерпнув дополнительную энергию и включив и себя в круг тех, кто не хочет понять знаков, явленных в страшных знамениях, Серапион к главному: несмотря на все перечисленные беды —
Мы же единако не покаяхомъся, дондеже приде на ны язык немилостивъ попустившю Богу; и землю нашу пусту створша, и грады наши плениша, и церкви святыя разориша, отца и братью нашю избиша, матери наши и сестры в поруганье быша.
И поэтому:
Ныне же, братье, се ведуще, оубоимъся прещенья сего страшьнаго и припадемъ Господеви своему исповедающесь: да не внидем в болши гневъ Господень, не наведемъ на ся казни болша первое. Еще мало ждеть нашего покаянья, ждеть нашего обращенья.
И далее — о грехах, но не прямо, в лоб, как бы непосредственно обличая, а с помощью более гибкого «условного» обращения [211], излюбленного Серапионом и свидетельствующего о его мягкости и душевной деликатности:
Аще отступимъ скверныхъ и немилостивыхъ судовъ, аще применимься криваго резоимьства и всякого грабленья, татбы, разбоя и нечистого прелюбодеиства, отлучающа от Бога, сквернословья, лже, клеветы, клятвы и поклепа, иныхъ делъ сотониныхъ, — аще сихъ пременимся, добре веде: яко благая приимуть ны не токмо в сии векъ, в будущии, потому что и сам Господь сказал, что к тому, кто вернется к нему, и Он вернется, а кто отступится от всех грехов, и Он тех покинет, казня их. Эти слова Иисуса, данные как цитата, дают Серапиону возможность поставить главный вопрос, естественно возникающий из слов Господних: Доколе не отступимъ от грехъ нашихъ?, и, подхватив его призывом Пощадим себе и чад своих, снова вернуть слушающих его к исключительности ситуации —
в кое время такы смерти напрасны видехомъ? Инии немогоша о дому своемъ ряду створити — въсхыщени быша, инии с вечера здрави легъше — на оутрия не всташа. И снова мольба–просьба — оубоитеся, молю вы, сего напраснаго разлученъя! Аще бо поидемъ в воли Господни, всемъ оутешеньемъ оутешить ны Богъ небесныи, акы сыны помилует ны, печаль земную отиметъ от нас, исходъ миренъ подастъ намъ на ону жизнь, идеже радости и веселья бесконечнаго насладимся з добре оугожьшими Богу.
И как спохватившись и осознав тщету своих увещаний, — о своих опасениях и тревогах за своих духовных детей, за порученную его попечению христианскую братию:
Многа же глаголах вы, братье и чада, но вижю: мало приемлють, пременяються наказаньемь нашимь; мнози же не внимають себе, акы бесмертны дремлють. Боюся, дабы не збылося о нихъ слово, реченное Господомъ: «Аще не быхъ глаголалъ имъ, греха не быша имели; ныне же извета не имуть о гресе своемь». И повторяя слова Иисуса — аще бо не пременитеся, извета не имате пред Богомъ! — И далее, называя себя грешным пастырем (грешный вашъ пастухъ), который только и сделал, что передал пастве Божье слово, Серапион апеллирует к тому, что она и без того знает:
вы же весте, како куплю владычню оумножити. Егда бо придеть судить вселенеи и въздати комуждо по деломъ его, тогда истяжетъ от васъ — [и снова — «если» деликатное и отсылающее не к вероятному гибельному исходу, но к надежде на благое. — В. Т.] аще будете оумножили талантъ, и прославитъ вы, в славе Отца своего, с Пресвятымь Духомъ и ныне, присно, векы.
Уже по первому «слову» видно, что, не скрывая многих, разных и тяжких грехов русского человека его времени, Серапион предпочитает не обличать, но увещевать, умолять. Говорить о благом исходе ему более по душе, чем грозить казнями Божьими. Но Серапион не может отступиться от суровой правды, от того, что он видит (вижю, виде, видя и т. п. не раз появляются в «словах» Серапиона) и что он, лишенный малейшего намека на самообольщение, трезво оценивает. И поэтому он не устает, несмотря ни на что, говорить о тяжких грехах своей паствы.
Именно этому посвящено и второе «слово» Серапиона, в котором акцент на грехах вверенного его попечению духовного стада ставится сильнее, чем до сих пор, и о них говорится подробнее, чем в первом «слове». При этом и градус эмоциональной взволнованности, и художественная сила, и пафос (впрочем, нигде не преступающий границу меры) повышаются. Усиливается и личное начало в этом «слове», и своя вовлеченность в описываемую ситуацию, неотделимость от нее и от других. Он, грешный, только голос этих грешников — единственное, что еще может, указав на уже разверзшуюся бездну, успеть указать и на спасение, скорее, на зыбкую еще надежду на него.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)", комментарии и мнения людей о произведении.