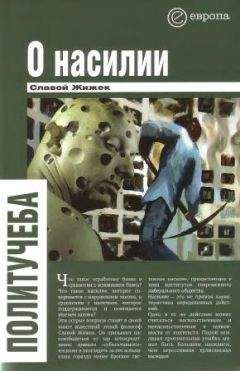Славой Жижек - Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм"
Описание и краткое содержание "Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм" читать бесплатно онлайн.
Книга включает три статьи одного из самых знаменитых и самобытных интерпретаторов лакановских идей применительно к современной культуре, Славоя Жижека, некоторые книги которого уже известны российскому читателю — «Возвышенный объект идеологии», «Хрупкий абсолют», «Добро пожаловать в пустыню реального», «13 опытов о Ленине». Три статьи данной «тетради» объединены не только лакановской методологией, но и предметом рассмотрения — глобализацией, универсализацией, кибернетизацией, природой этнических конфликтов. Эти темы поворачивают книгу лицом к широкому кругу читателей.
Это постепенное крушение (или, пожалуй, утрата сути) «американской мечты» свидетельствует о неожиданной инверсии перехода от первичной идентификации к вторичной, описанной Гегелем: вне «постмодернистских» обществ «абстрактное» установление вторичной идентификации все чаше воспринимается как внешняя, совершенно формальная структура, которая, в сущности, необязательна, поэтому люди все чаще ищут поддержки в «изначальных», как правило, менее широких (этнических, религиозных) формах идентификации. Даже когда эти формы идентификации более «искусственны», нежели национальная идентификация (как происходит в случае гомосексуальных сообществ), они более «непосредственны» в смысле непосредственного и подавляющего овладения самим индивидом, его определенным «образом жизни», ограничивая тем самым «абстрактную» свободу, которой он обладает в качестве гражданина национального государства. Таким образом, сегодня мы имеем дело с процессом, обратным тому, что лежал в основе формирования современной нации: вместо «национализации этнического» (деэтнизации, «снятия (Aufhebung)» этнического в национальном) мы теперь имеем дело с «этнизацией национального», с новым поиском (или реконструкцией) «этнических корней». Однако главное, чего не следует здесь упускать, заключается в том, что этот «регресс» от вторичной к «изначальной» форме идентификации с «органическими» этническими и т. д. сообществами уже «опосредован»: он представляет собой реакцию на всеобщее измерение мирового рынка — по сути, он проходит на его территории, на его фоне. Поэтому в этих явлениях мы имеем дело не с «регрессом», а, скорее, с формой видимости его полной противоположности: в своеобразном акте «отрицания отрицания», само это повторное утверждение «изначальных» этнических и т. д. идентификаций указывает на то, что органически-субстанциальное единство утрачено окончательно.
Чтобы прояснить эту мысль, следует принять во внимание то, что, быть может, является главным уроком постсовременной политики: не будучи «естественным» единством социальной жизни, итоговым равновесием, своего рода аристотелевской энтелехией, к которой было направлено все предшествующее развитие, всеобщая форма национального государства представляет собой довольно шаткое временное равновесие между отношением к особенной этнической Вещи (патриотизм, pro patria mori и т. д.) и (потенциально) всеобщей функцией рынка. С одной стороны, оно «снимает» органические локальные формы идентификации во всеобщей «патриотической» идентификации; с другой стороны, оно полагает себя в качестве псевдоестественной границы рыночной экономики, отделяющей «внутреннюю» торговлю от «внешней», — экономическая деятельность тем самым «возвышается», возводится на уровень этнической Вещи, будучи оправданной как патриотический вклад в величие нации. Это равновесие находится под постоянной угрозой с обеих сторон, со стороны прежних «органических» форм особенной идентификации, которые не исчезают сами собой, а продолжают свое тайное существование за рамками всеобщей публичной сферы, как и со стороны имманентной логики Капитала, «транснациональный» характер которой по сути своей безразличен по отношению к границам национального государства. И сегодняшние новые «фундаменталистские» этнические идентификации связаны со своего рода «десублимацией», процессом распада этого сомнительного единства «национальной экономики» на две основные составляющие — транснациональную рыночную функцию и отношение к этнической Вещи11. Именно поэтому только сегодня в современных «фундаменталистских», этнических, религиозных и т. д. сообществах произошло окончательное разделение между абстрактной формой коммерции и отношением к особенной этнической Вещи, открытой проектом Просвещения: сегодняшний постсовременный этнический и религиозный «фундаментализм» и ксенофобия не только не «регрессивны», но, напротив, служат главным доказательством окончательной эмансипации экономической логики рынка от привязанности к этнической Вещи12. В этом и состоит, наивысшее спекулятивное достижение диалектики общественной жизни: не в описании процесса опосредования изначальной непосредственности (скажем, распада органической общины в «отчужденном» индивидуалистическом обществе), а в объяснении того, как сам этот процесс опосредования, характерный для современности, может порождать новые формы «органической» непосредственности. Поэтому стандартная история перехода от Gemcinschait к Gesellschatt должна быть дополнена исследованием того, как процесс становления общества из общности дает начало различным формам новых, «опосредованных» сообществ (скажем, «сообществ определенного образа жизни»).
Мультикультурализм
Как в таком случае мир Капитала соотносится с формой национального государства в нашу эпоху глобального капитализма? Быть может, лучше всего эти отношения было бы назвать «автоколонизацией»: в условиях полного мультинационального обращения капитала мы перестаем иметь дело со стандартной оппозицией между капиталом и колонизированными странами; глобальная компания как бы перерезает пуповину, связывающую ее со своей матерью-нацией, и относится к стране своего происхождения просто как к еще одной территории, которую нужно колонизировать. Именно этим так озабочены многие патриотически ориентированные правые популисты от Ле Пена до Бьюкенена: тем, что новые транснациональные корпорации имеют к местному населению Франции или США точно такое же отношение, как и к населению Мексики, Бразилии или Тайваня. Нет ли в этом самореференциальном повороте своеобразной идеальной справедливости? Сегодняшний глобальный капитализм, таким образом, опять-таки представляет собой своеобразное «отрицание отрицания», наступающее после национального капитализма и его международного/колониального этапа. Вначале (разумеется, идеально) капитализм существует в рамках национального государства и сопровождается международной торговлей (обмен между суверенными национальными государствами); затем наступают отношения колонизации, когда колонизирующая страна подчиняет и эксплуатирует (экономически, политически, культурно) колонизированную страну; финальная точка этого процесса — парадокс колонизации, когда есть только колонии и нет никаких стран-колонизаторов — колонизатором теперь является не национальное государство, а сама глобальная компания. В долгосрочной перспективе все мы будем не только носить рубашки, произведенные в банановых республиках, но и жить в этих республиках13.
И разумеется, идеальной формой идеологии этого глобального капитализма является мультикультурализм, позиция, которая — со своеобразной пустой глобальной точки зрения — относится ко всякой локальной культуре так, как колонизатор относится к колонизированным народам — как к «туземцам», нравы которых следует внимательно изучать и «уважать». То есть отношения между традиционным колониальным империализмом и глобальной капиталистической автоколонизацией в точности соответствуют отношениям между западным культурным империализмом и мультикультурализмом: точно так же, как глобальный капитализм связан с парадоксом колонизации без колонизаторского национального государства-метрополии, мультикультурализм связан со снисходительной европоцентристской отстраненностью и/или уважением к локальным культурам, не имея никаких корней в своей собственной особенной культуре. Иными словами, мультикультурализм — это дезавуированная, превращенная самореференциальная форма расизма, «расизм с определенного расстояния» — он «уважает» идентичность Другого, рассматривая Другого как замкнутое «подлинное» сообщество, по отношению к которому он, мультикультуралист, поддерживает дистанцию, отражающую его привилегированную всеобщую позицию. Мультикультурализм — это расизм, который освобождается от всякого положительного содержания (мультикультуралист — это не открытый расист, он не противопоставляет Другому особенные ценности своей культуры), но тем не менее сохраняет эту позицию как привилегированное пустое место всеобщности, с которого он может давать оценку совершенно иным особым культурам — уважение мультикультуралиста к особости Другого и есть форма утверждения собственного превосходства. Как насчет достаточно очевидного контраргумента о том, что нейтралитет мультикультуралиста фальшив, поскольку в его позиция молчаливо отдается приоритет европоцентристскому содержанию? Такая аргументация верна, но не по этой причине. Особенный культурный фон или корни, на которые всегда опирается всеобщая мультикультуралистская позиция, — это не ее «истина», скрывающаяся за маской всеобщности («мультикультуралистский универсализм — это на самом деле европоцентризм…»), а скорее, нечто совершенно противоположное: некие особые корни — это фантазматический экран, скрывающий то обстоятельство, что субъект уже окончательно лишился всяких корней, что его истинное положение — это пустота всеобщности. Напомню здесь свой же парафраз остроты Де Квинси по поводу изящного искусства убийства: сколько людей начинало с невинной групповушки и заканчивало совместной трапезой в китайском ресторане!14 Суть этого парафраза заключается в полном перевертывании традиционного соотношения между поверхностной отговоркой и непризнаваемым желанием: иногда труднее всего принять явление во всей его поверхностности — мы воображаем множество фантазматических сценариев, скрывающих его «глубокие смыслы». Вполне возможно, что мое «подлинное желание», которое можно угадать в моем отказе пообедать в китайском ресторане, — это моя очарованность фантазмом группового секса, но суть в том, что фантазм, который структурирует мое желание, сам по себе уже служит зашитой от моего «орального» влечения, которое обладает абсолютно принудительным характером…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм"
Книги похожие на "Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Славой Жижек - Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм"
Отзывы читателей о книге "Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм", комментарии и мнения людей о произведении.