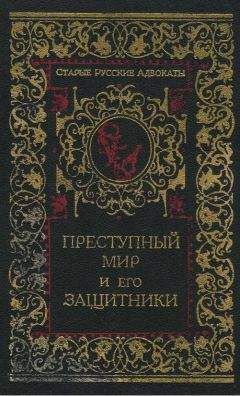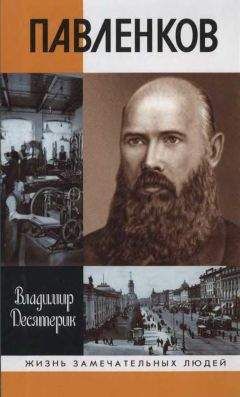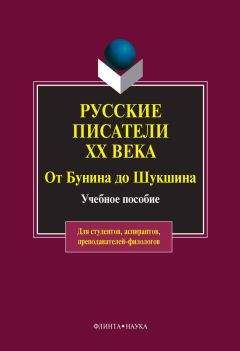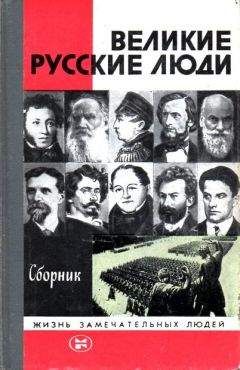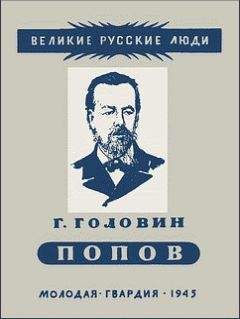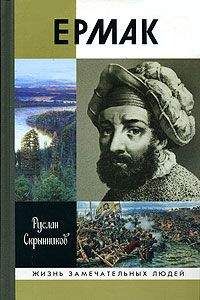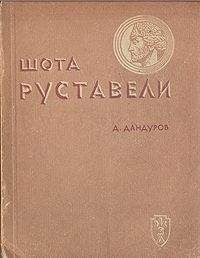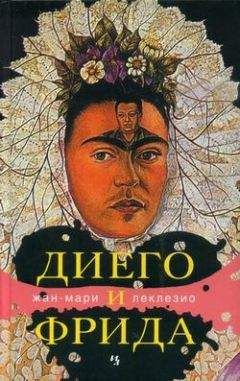Дмитрий Жуков - Русские писатели XVII века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русские писатели XVII века"
Описание и краткое содержание "Русские писатели XVII века" читать бесплатно онлайн.
Впервые в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга о двух писателях, вернее, двух книжных деятелях древней русской литературы — Аввакуме Петрове и Симеоне Полоцком.
А ведь не кто иной, как Никон, пригрел сперва Лигарида, о котором потом писал в грамоте к вселенским патриархам, перехваченной царскими людьми: «Главный враг мой у царя — это Паисий Лигарид; царь его слушает и как пророка божия почитает…»
В России не знали, что авантюрист не имеет права поставления новых епископов, а когда узнали, то сам царь просил за него перед александрийским патриархом Паисием. Хороши были и другие восточные священнослужители, осевшие в Москве. Дьякон Мелетий, пробавлявшийся ростовщичеством. Дьякон Агафангел — виноторговец, пивовар и содержатель игорных притонов, проигравший раз все деньги и одежду и ограбивший соседа священника. Архимандрит Дионисий, которого Аввакум не без оснований обвинял в содомском грехе, чинимом даже в церкви…
Хитрые, наглые, жадные до денег люди, отвергнутые у себя на родине, все они стали ценными агентами царя Алексея Михайловича в переговорах со вселенскими патриархами и в подготовке большого собора. Попытка Никона самовольно вернуться на престол, всероссийская пропаганда Аввакума и его единомышленников заставляла торопиться царя, хотевшего опереться на решение собора и на авторитет вселенских патриархов.
Патриархи Дионисий константинопольский и Нектарий иерусалимский уклонились от поездки в Москву. Согласились Макарий антиохийский и Паисий александрийский. Они были беднее и потому покладистей.
Ехали они не через Европу, где шла война, а азиатским путем, через Астрахань. Денег на дорогу им не жалели — одних лошадей под патриархами и их свитой было пятьсот. Мелетий Грек, провожавший владык по указу царя, был учтив до приторности, говорил о бывшем патриархе Никоне, но подробности таил…
А в Москве тем временем идет лихорадочная работа. Царь тщательно готовится, сам составляет программу собора, сам отбирает его участников. И как ни просит старец Григорий, никто из мирян и белого духовенства, ни один защитник старой традиции на собор не попадет.
Но их велено привезти из мест ссылки. Это было в феврале 1666 года. Одновременно царь вызывает поодиночке всех участников собора и предлагает им ответить письменно на три вопроса. Вот существо их:
1. Имеют ли право восточные патриархи решать дела русской православной церкви?
2. Достоверны ли печатные греческие книги?
3. Правильны ли решения собора 1654 года (когда Никон начал пересмотр книг)?
Видя грозную решительность царя, отрицательных ответов не дал никто. Правка книг, трехперстие и другие обряды признавались правильными.
Алексея Михайловича теперь не узнать. Выжидание кончилось. Действует расчетливый политик, вместе со своими расторопными помощниками заранее определивший ход событий. Никон только успевает оправдываться, исписывая горы бумаги. Исход его дела ясен, обвинение разработано подробно и убедительно. Царя больше волнует другая сторона, противники Никона. С этими спорить труднее. Надо уговорить, пригрозить… и лишь в крайнем случае вывести их на собор.
Странным кажется положение царя, как бы вынужденного защищать дело своего врага. Но царю оно странным не казалось. Дело было его, царское. И оно должно жить независимо от того, кто сидел или будет сидеть на патриаршем престоле. Противники нововведений уже понимали это.
Многие из мятежников покаялись до собора и были разосланы в разные монастыри. Упорствовали четверо.
Первый из них, благовещенский дьякон Федор, сидел на дворе у митрополита крутицкого «Павла краснощекого». Федор приготовил для собора письменную память, в которой сличил тексты разных изданий никоновских книг. В них и то многое не сходилось. Как можно верить таким книгам? Митрополит Павел уговаривал его. Пусть Федор поймет царя. Алексей Михайлович не хочет раздора ни в церкви, ни в стране. Вот и он, Павел, не отрицает старого благочестия, но воля царя для него — закон, и он исполнит ее во что бы то ни стало.
Политические соображения митрополита не тронули Федора, и он осудил Павла решительно и дерзко:
— Надо угождать Христу, а не тленному царю!.. Хочешь быть на виду, оттого и стараешься…
На том и кончились «ласковые» увещевания. Посадили Федора на цепь.
Писал Федор о старых служебниках, что они «не с мордовских, не с черемиских и не с латинских переложены, а напечатаны в старину с греческих древних письменных, переведены в добрые времена, до взятия Царьграда и за много лет до истребления римлянами греческих книг…». Он предлагал царю перечесть повесть о Белом Клобуке и вспомнить о славе третьего Рима.
Ему вторил Никита Добрынин Пустосвят, который тоже привез подробный разбор изданий Никона. Его книгой занялись отдельно Симеон Полоцкий и Паисий Лигарид. Никита повторял слова инока Филофея о третьем Риме, о «великой России», а о греческих патриархах отзывался «нехорошо». На Никона он «отрыгал хулы и клеветания», как на принявшего «зловерие жидовское» от «ведомого вора… Арсения чернеца».
Подавал челобитные и поп Лазарь, готовивший свиток под названием «Роспись вкратце нововведенным церковным раздорам».
Четвертого, Аввакума, привезли в Москву 1 марта 1666 года. С ним приехали сыновья Иван и Прокопий. Настасья Марковна с меньшими детьми осталась на Мезени.
Аввакум тоже попал в Крутицы к краснощекому здоровяку митрополиту Павлу. Павлик, как его называл протопоп, не стеснял свободы Аввакума. Беспрепятственно разгуливал он по Москве. Две ночи провел в «несытных» разговорах с Феодосьей Морозовой. Они клялись друг другу «пострадать за истину».
— Смерть примем, а друг друга не выдадим…
Дни проходили в спорах с Павлом крутицким. Этот матерщинник, скорый на расправу человек, следовал указанию царя во что бы то ни стало уговорить протопопа. Терпеливо втолковывал он упрямцу, что ему следует примириться с царской волей, говорил о высшей государственной необходимости. Но доводы его не трогали Аввакума, и совсем по-иному понимал он высшую государственную необходимость. Эрудиции Павла он противопоставлял свою начитанность.
Уговаривал его и рязанский архиепископ Иларион, что некогда был попом в Лыскове, игуменом в Макарьеве и другом Аввакума. Теперь он ходил в ближних советниках царя. Обходительный, пронырливый и благообразный Иларион давно уже понял, что нужно Алексею Михайловичу, и являл собой новый тип князя церкви. Он учился у архимандрита Дионисия греческому языку и греческим нестрогим нравам. Светские замашки Илариона дали потом Аввакуму обильную пищу для мастерской сатиры. «Друг мой Иларион, епископ рязанской! Видишь ли, как Мелхиседек жил? На вороных в каретах не тешился, ездя! Да еще был царской породы. А ты кто? Вспомяни-тко, Яковлевич, попенок! В карету сядет, что пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади, чтобы черницы-ворухи-униатки любили…». Видно, досталось Илариону от ядовитого Аввакума в эту встречу, потому что возненавидел он протопопа лютой ненавистью.
Аввакуму первому надоели томительные пререкания. Он демонстративно явился в Успенский собор и «стал пред митрополитом Павликом».
Нигде нет внятного сообщения, о чем говорил протопоп, обрекавший себя на муку. Прошло всего пять дней вольной жизни, а потом снова отъезд. 9 марта он уже сидит на цепи в Пафнутьевом монастыре у города Боровска, в девяноста верстах от Москвы.
Причудливо вьется Протва среди сосновых боров там, где поселился в XV веке внук ханского баскака инок Пафнутий. Потомок татар стал хранителем заветов Сергия Радонежского, положившего все свои силы на объединение России, избавление ее от татарского ига. Одним из учеников его был знаменитый писатель и политик Иосиф Волоцкий. Монастырь быстро окреп. И в наше время поражают величием пятиглавый собор Рождества богородицы, стены и башни монастыря, построенные, по некоторым предположениям, гениальным Федором Савельевым Конем. Богат был монастырь. Один боярин Андрей Клешнин внес сюда все свое громадное состояние. Левкий Схимник — так его назвали в монастыре — скрывался от глаз людских, замаливал тяжкий грех… В 1610 году двое воевод-изменников открыли ворота Тушинскому вору. Воевода Волконский бился до последней минуты и был зарублен у стены собора. В этом бою погибло 12 тысяч человек… И вновь история коснулась крылом Пафнутьева монастыря…
Игумен Парфений получил от митрополита Павла распоряжение сломить волю Аввакума. То его держали на цепи в «темной палатке», то «вольно». И уговаривали. Приезжали уговаривать из Москвы.
— Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушко!
Видно, мир с ним очень был нужен царю. Политика кнута и пряника не помогала. Аввакум отправил в Москву с приезжавшим нарочно в Боровск ярославским дьяконом Козмой письмо «с бранью с большою». Этот Козма вел очень странную игру, похожую на провокацию. «Не знаю какого духа человек», — сказал о нем Аввакум.
При всех он уговаривал протопопа, а наедине ободрял:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русские писатели XVII века"
Книги похожие на "Русские писатели XVII века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Жуков - Русские писатели XVII века"
Отзывы читателей о книге "Русские писатели XVII века", комментарии и мнения людей о произведении.