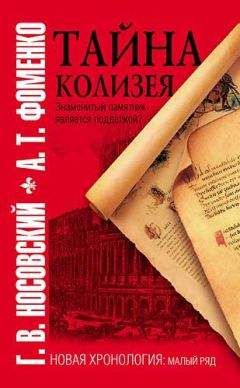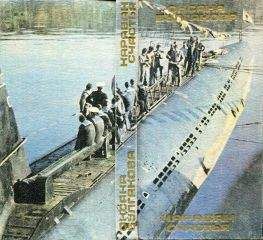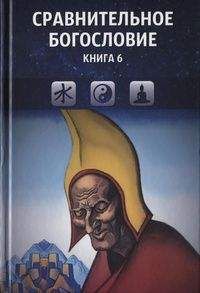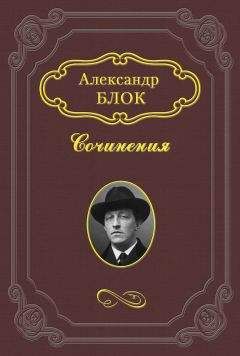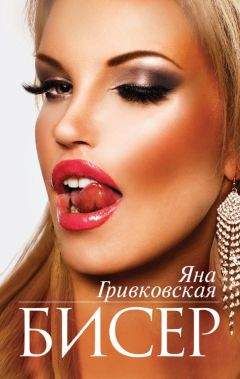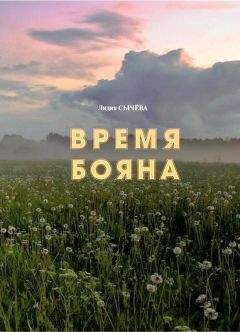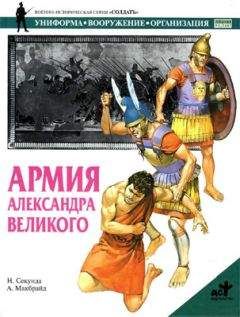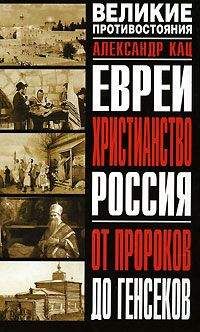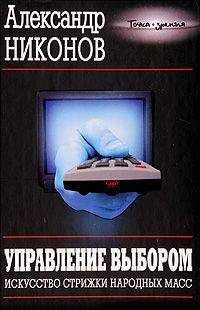Александр Мирер - Евангелие Михаила Булгакова

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Евангелие Михаила Булгакова"
Описание и краткое содержание "Евангелие Михаила Булгакова" читать бесплатно онлайн.
Книга Александра Зеркалова посвящена исследованию ершалаимских глав романа «Мастер и Маргарита» через призму первоисточников булгаковского текста — канонических Евангелий, Талмуда, трудов древних историков и более поздних авторов, на которых прямо или косвенно указывает текст знаменитого романа. Зеркалов не отвергает того, что писалось о творчестве Булгакова до него, однако идет дальше своих предшественников: в свете его выводов текст романа приобретает новое значение, а Булгаков предстает не только выдающимся художником, но и вдумчивым исследователем, которому не чужд научный подход.
Он безвластен на земле — так же, как и Бог, которому он поклоняется [84]. Недаром, видимо, Пилат замечает: «Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем… это не поможет» (с. 448). И этими словами жестокого провидца завязывается узел — завязывается и стягивает воедино бессилие Иешуа и безвластие Пилата.
Да, игемон провидит, что Бог тут бессилен и судьба — его, игемона, судьба — решена. Шаг за шагом мистическое провидение опускается на Пилата. Вначале он понимает, что арестант — не просто «великий врач». «О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой» (с. 443). Это пока логическое умозаключение; трасцендентный оттенок ему придает лишь улыбка. Чуть дальше Пилат вздрагивает, говоря о волоске жизни, которой он может перерезать, — это и мистика, достаточно явственная, и, возможно, первая догадка о ловушке, устроенной храмом. Настоящее пророческое чувствование посещает игемона после появления рокового пергамента, причем не предчувствие ужасной судьбы Иешуа — ее-то он знает, — а своей судьбы в потустороннем мире: «…О каком-то долженствующем непременно быть — и с кем?! — бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску» (с. 446). Здесь еще звучит вопрос «с кем?», еще не упущено время повернуть судьбу, может быть? Но тот же вопрос повторяется и в следующем провидении, при разговоре с Каифой: «Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке» (с. 452).
Эго — трусость. Пилат боится осудить себя, боится собственной совести. И свой страх и гнев он переносит на Каифу — забыв даже о себе, пророчествует судьбу Ершалаима и народа Иудеи. Черные пророчества игемона об Ершалаиме мы еще будем анализировать, в иной несколько связи. Эгоцентризм присущ всем его провидениям — особенно ночному, посетившему его во сне, после того, как прокуратор несколько часов не сводил глаз с «оголенной луны».
30. Лунный сон
В библейской традиции пророком считается человек, устами которого Бог изъявляет свою волю. Божество общается с избранным либо прямой речью, звучащей, например, из огненного столба; либо через посланца-ангела; либо является пророку в сонном видении. Не следует путать пророков с теми библейскими персонажами, которые видели сны-предсказания, но сами их истолковывать не могли, как, например, фараон в истории об Иосифе Прекрасном. Пророк — не пассивный передатчик слов божества, а мудрый толкователь. Более всего в Библии содержится пророчеств, предсказывающих будущее. Поэтому в обиходе слово «пророк» и употребляется как «предсказатель будущего». Еще одна подробность: прорицания, приписываемые библейским пророкам, почти всегда ретроспективны, так как соответствующие книги были написаны после предсказанных якобы событий.
В лунном сне игемона есть все атрибуты пророческого видения. Первый: «И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне» (с. 735).
Я начал цитировать сцену с последних ее фраз, ибо только из них вытекает, что рядом с Пилатом шел не просто «философ-бродяга», а Бог. Свидетельством тому пророческие ощущения Пилата. Он видит Бога, понимает его речения, принимает их целиком: «Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, — просил во сне Пилат». Само речение дается несколько раньше, в периоде, который уже цитировался: «Мы теперь всегда будем вместе… Помянут меня — сейчас же помянут и тебя!» Это типичное ретроспективное предсказание восходит не к Евангелию, а к богослужебной литературе, к важнейшей христианской молитве «Символ веры», в которой судья действительно поминается следом за подсудимым: «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате».
Зафиксируем второй результат: в рассказе новозаветный Бог подменен богочеловеком, олицетворяющим идею добра (см. гл. 28).
Сцена лунного сна — теологический ключ к новелле. В ней сходятся все линии булгаковской фантасмогории: Бог-сын обнаруживается через пророка-язычника; земная ипостась Бога дается через повторную ссылку на Талмуд — «Меня, — подкидыша, сына неизвестных родителей…»; двойственно-противоречивое место Пилата в предании раскрывается соответственно через две отсылки — к «Верую» и к поэме «Пилат». Все это буквально спрессовано, вбито в один короткий период, в какие-то пятьдесят слов. Прозрачный и легкий булгаковский стиль даже сдвинулся под грузом информации к стилю газетного сообщения.
Итак, Иешуа Га-Ноцри, подобно Иисусу из Назарета, не только человек, но и Бог. Но странный это человек — и странное божество! Бессильное во всех земных делах, и «сейчас», и «потом»… Его главнейшее предсказание об устройстве мира не сбывается — ибо, как знает каждый читатель, человечество до сей поры не видит «чистой реки воды жизни» (с. 744). Иешуа не в силах спасти свое земное «я», хотя — в отличие от Иисуса — не желает смерти и пытается избежать ее. Положение этого полубожества на земле — подчиненное, зависимое во всех смыслах, в чем мы убедились при разборе первых двух глав новеллы. Но из лунного сна явствует, что власть Иешуа, его право на суд начинается за гранью смерти, в потустороннем мире.
И земной судья, жестокий прокуратор, покорно признает его право. В своем лунном сне, как бы в кусочке потустороннего мира, он плачет и смеется, заручившись кивком властителя той жизни, потустороннего судьи.
Это — очень важная, хотя и малозаметная деталь. Разделено не право на власть вообще, а право на суд, то есть отправление власти по некоему признанному закону. Иешуа отправляет горний закон, Пилат — земной. И, признавая горнюю власть Иешуа, игемон не поступается своими земными прерогативами. «Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом…» (с. 734). «Ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые…» (с. 735). (Спор идет в том же сне, занимающем по тексту всего одну страницу, 43 строки!) Игемон спорит с небесным Богом, не принимая суждений потустороннего владыки в земных делах. Игемон стоит на своем: «Оно никогда не настанет!» И читатель знает, что земные суждения игемона верны — нелепо считать всех людей добрыми. Земные прогнозы игемона сбываются — Бог не помогает Иешуа спастись, царство истины не наступает вот уже 2000 лет, легионы империи разбили лагерь на месте Храма, и еврейскому народу нет покоя до сей поры.
Впрочем, в одной точке оба героя сходятся: «…Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!» (с. 735). Кто произносит последнюю фразу — игемон? Мастер? Не знаю, и не важно это, ибо она резюмирует сквозную тему всего романа. Эти слова можно считать прямым обращением Булгакова к читателю, единственным в новелле.
К великому сожалению, здесь невозможно уделить должное внимание центральной теме «Мастера и Маргариты»: власть — страх — донос. Она разлита по всему роману. Можно лишь сказать, что в ключевой сцене лунного сна подводится итог и этой теме. Игемон принимает суждение Иешуа о трусости потому, что ему — военному и храброму физически человеку — собственный страх постыден и унизителен. Далее, как мы видели, он отказывается и от жестокости, генетически связанной со страхом. Это понятно и психологически более чем достоверно, но это — его личный итог. А в контексте лунного сна, где действуют уже не личности, а этические абстракции — судья земной и судья небесный, — трусость понимается как общественное явление. Она заставила игемона стать судьей неправедным, нарушить закон, именем которого он судил, и в конечном счете подорвать основы общества, вручившего ему судейский меч.
Трусость — страшный порок, поскольку она делает невозможным отправление закона и тем разрушает общественное здание.
31. Четвертое прочтение
Рассказывают, что в еврейских религиозных школах когда-то превыше всего ценилось знание Талмуда «на иглу». Учитель прокалывал иглой букву текста, а ученик должен был сказать, какие буквы пронизаны на следующих страницах.
Букву за буквой мы прокалывали портрет Иешуа, и под ним, на портрете игемона, оказывались те же буквы, начертанные навыворот. Доброта обернулась жестокостью, земля — небесами, альтруизм — эгоизмом и отвага — трусостью.
В литературе известны сотни двойных портретов, тем более — позитивно-негативных. Противопоставление зла добру, совести — бесстыдству и т. д. — древнейшая функция литературы. Противопоставление героев служит эффективнейшим и безотказным ремесленным приемом, создающим конфликт, этот катализатор читательского интереса. И следом за риторическими вопросами появляется проблема, действительно нуждающаяся в разрешении: зачем такой сильный художник, как Булгаков, двинулся по пути, проторенному десятками Отелло и сотнями Яго? Иными словами, воспользовался ли он ремесленным приемом либо сознательно или спонтанно стремился выразить некоторую концепцию? Мысль о концепции возникает вот почему: негатив действительно повторяет позитивный портрет с невероятной точностью. Сходство обеспечивается этически нейтральными качествами: оба героя одиноки, чрезвычайно умны, не вполне здоровы душевно, тверды в убеждениях и оба — владычные судьи. Эти качества создают совпадающие контуры портретов. Но внутри негативного контура все белые пятна аккуратнейше заменены черными. Столь полной этической противоположности европейская литература, пожалуй, и не знает. Например, Отелло и Яго — оба солдаты и оба — убийцы Дездемоны. А Иешуа противопоставлен игемону и по жизни, и по кодексу морали.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Евангелие Михаила Булгакова"
Книги похожие на "Евангелие Михаила Булгакова" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Мирер - Евангелие Михаила Булгакова"
Отзывы читателей о книге "Евангелие Михаила Булгакова", комментарии и мнения людей о произведении.