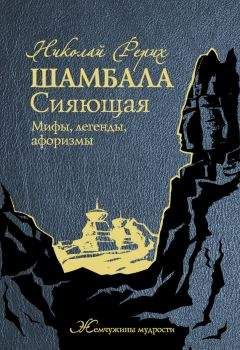Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Описание и краткое содержание "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать бесплатно онлайн.
Первый том Собрания сочинений М. М. Бахтина — это начало пути мыслителя. В томе публикуются его ранние философские работы, не печатавшиеся при жизни автора. Первые посмертные публикации этих работ (в 1975, 1979 и 1986 гг.) были текстологически несовершенными; для настоящего издания их тексты заново подготовлены по рукописям, уточнены и восполнены новыми фрагментами, не поддававшимися прочтению. Три капитальных ранних труда М. М. Бахтина предстают в восстановленных, по существу, — новых текстах. Как и в уже вышедших ранее томах (5, 2 и 6-м) Собрания сочинений, тексты работ обстоятельно комментируются. Тексты сопровождаются факсимильным воспроизведением листов рукописей М. М. Бахтина.
552
113. В АГ при анализе проблемы «пространственной формы внутри эстетического объекта, выраженного словом в произведении» (С. 169), М.М.Б. обращается к вопросу о чувственных представлениях «образа» (зрительные представления и т. п.), поставленному В.М.Жирмунским в статье «Задачи поэтики» (С. 169–170).
553
114. В статье «Задачи поэтики» В. М. Жирмунский завершает свое опровержение теории наглядности образа А. А. Потебни утверждением: «Материалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слово. Поэзия есть искусство слова, словесное искусство» (Жирмунский 1921. С. 56; Он же 1924. С. 131). М.М.Б. опровергал это определение уже в АГ «изображаемый словом эстетический объект сам, конечно, из слов только не состоит, хотя в нем и много чисто словесного» (С. 169). Полемизирует М.М.Б. с таким определением и в ФМЛ: «Можно говорить о языке как о материале литературы, что и делает Жирмунский, так как язык в его лингвистической определенности действительно преднаходится индивидуальным художником»; «Мы уже указывали на понимание материала Жирмунским. Мы видели, что он понимает под сырым материалом литературы язык, слово, как лингвистическое явление» (ФМЛ 153, 159). М. И. Каган, другой ведущий представитель Невельской школы философии, в статье 1937 г. также отвергал подобный подход к поэтическому произведению: «С безразличием к разумному смыслу и рациональному толкованию смысла поэзии связаны все попытки растворить поэтическое в словесной или иной стороне формы художественного произведения» (Каган 1974. С. 87).
554
115. М.М.Б. отмечает, что отказ от анализа содержания эстетического объекта приводит В. М.Жирмунского к подмене эстетики художественного творчества и художественного созерцания психологией творчества и художественного восприятия. Согласно В. М. Жирмунскому, воспринимающий поэтическое произведение имеет дело не с этико-эстетическими ценностями, т. е. с оформленными моментами содержания, а с субъективными и случайными переживаниями и другими психическими образованиями: «Как всякая человеческая речь, поэтическое слово вызывает в воспринимающем и образы — представления и чувства — эмоции, и отвлеченные мысли, и даже волевые стремления и оценки (т. н. «тенденция») <…> Все стороны душевной жизни человека могут быть затронуты поэзией. Но не в этом, конечно, ее специфическая особенность, как искусства» (Жирмунский 1921. С. 56; Он же 1924. С. 131). Ср. тоже возражение В. М. Жирмунскому с непосредственной отсылкой на «Задачи поэтики» в статье «Ученый сальеризм»: «художник, поэт орудует не словами, как таковыми, как и не образами (зрительными представлениями) и не переживаниями — эмоциями, а смыслом этих слов, содержанием их, значением их, т. е. в конечном счете — самими предметами (не в буквальном, конечно, смысле), самими ценностями, знаком которых — nomen в буквальном смысле — и являлись слова» (Медведев 1925. С. 269).
555
116. Данное определение предвосхищает обоснование понятия «социальная оценка» в ФМЛ (ФМЛ 161–171). Неслучайно при этом в ФМЛ воспроизводится почти вся проблематика 4-го раздела 3 главы «Проблема материала» ВМЭ, касающаяся потебниан-ского «образа», внутренней формы слова, этико-эстетических ценностей, лингвистических форм и их значений, эмоционально-волевого момента. В свою очередь та же проблематика соотносится с важнейшими оригинальными положениями ФП и АГ. Под социальной оценкой М.М.Б. понимает «историческую актуальность, объединяющую единичную наличность высказывания с общностью и полнотой его смысла, индивидуализующую и кон-кретизующую смысл и осмысляющую звуковую наличность слова здесь и теперь» (там же. С. 164). Язык, «как совокупность или система лингвистических возможностей, — фонетических, грамматических, словарных», актуализуется в акте речевого высказывания: «чистая <…> лингвистичекая форма поддается лишь символическому обозначению. Как действительность, она осуществляется лишь в конкретном речевом выступлении, в социальном акте высказывания» (там же. С. 166). Совокупность речевых высказываний и образует действительную языковую реальность. «Именно социальная оценка делает актуальным высказывание как со стороны его фактической наличности, так и со стороны его смыслового значения. Она определяет выбор предмета, слова, формы, их индивидуальную комбинацию в пределах данного высказывания. Она определяет и выбор содержания, и выбор формы, и связь между формой и содержанием» (там же. С. 164–165). «Таким образом, материалом поэзии является язык, как система живых социальных оценок, а не как совокупность лингвистических возможностей» (там же. С. 169). «Язык для поэта, как, впрочем, и для всякого говорящего есть система социальных оценок» (там же. С. 167). «Поэт выбирает не лингвистические формы, а заложенные в них оценки <…> Выбирая слова, их конкретные сочетания, их композиционные размещения, поэт выбирает, сопоставляет, комбинирует именно заложенные в них оценки» (там же. С. 166). Приведенные цитаты показывают, в каком направлении в ФМЛ, как одном из этапов на пути к созданию философской герменевтики, развивался теоретический потенциал, заключенный в комментируемом определении ВМЭ. Однако конкретизация понятия социальной оценки в ФМЛ, а также указание на эмоционально-волевой момент в комментируемом определении ВМЭ позволяют сделать вывод, что «социальная оценка» является терминологическим эквивалентом mutatis mutandis важнейшего понятия ранних работ М.М.Б. — «эмоционально-волевой тон». В одном из первых определений социальной оценки в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» еще явственно видна связь с понятием «эмоционально-волевой тон»: «Индивидуальные же эмоции только как обертоны могут сопровождать основной тон социальной оценки» (Волошинов 1926. С. 251). В ФМ#наиболее чистым и типическим выражением социальной оценки М.М.Б. считает экспрессивную интонацию, отмечая ее необязательность и отличие от синтаксической интонации (ФМЛ 165; ср. там же. С. 75, 141, 205). Уже в более раннем, первом варианте обоснования этого понятия в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (Волошинов 1926. С. 250–252) относительно социальной оценки почти в тех же выражениях утверждается: «наиболее чистое же свое выражение она находит в интонации» (там же. С. 252). Далее в ФМАГоворится о «чистой экспрессии» как выражении социальной оценки в поэтическом творчестве (ФМЛ 172). В Конспекте МФП (май 1928 г.), характеризуя понимание «внутренней формы слова» у ее апологетов-теоретиков как искаженное выражение заложенной в слове социальной оценки, М.М.Б. отметил: «оценку нельзя отождествлять с эмоциональной экспрессией, которая является лишь необязательным обертоном социальной оценки» (Конспект МФП. С. 98). Поскольку именно социальная оценка формирует значение слова и тем самым определяет его конкретную предметность, как это было установлено в АГ — «в действительности оценка проникает предмет, более того, оценка создает образ предмета, именно формально-эстетическая реакция сгущает понятие в образ предмета» (С. 77), — то, следовательно, «социальная оценка» и «эмоциональная экспрессия» относятся к одному понятийному ряду, т. е. содержательно однородны. Поэтому в МФП, возвращаясь к собственной терминологии, М.М.Б., как и в ФМЛ, утверждает: «наиболее поверхностный слой заключенной в слове социальной оценки передается с помощью экспрессивной интонации»; «Такую оценку, действительно, можно назвать только побочным, сопровождающим явлением языковых значений» (МФП 123, 125). Судя по Конспекту МФП, позиция апологетов «внутренней формы слова» заключалась в разрыве предметного, логически определяемого значения слова и эмоциональной экспрессии, т. е. в разнесении их к разным содержательным областям, и фактически в психологизации эмоциональной экспрессии, хотя и имевшей в теориях апологетов «внутренней формы слова» соответствующие лингвистические формы для своего выражения. В противовес подобной психологизации М.М.Б. постоянно подчеркивает ценностное значение экспрессивной интонации, как сказано в МФП, «ценностный акцент» (там же. С. 123). Говоря об апологетах-теоретиках «внутренней формы слова» в Конспекте МФП, М.М.Б. имеет в виду А. Марти (Конспект МФП. С. 88) и Г. Г. Шпета с его книгой «Внутренняя форма слова» (1927). Как известно, из МФП, вопреки Конспекту МФП, проблематика «внутренней формы слова» исключена, так как изложение ее предпринято в ФМЛ (ФМЛ 75, 161–171). Однако именно в МФП содержится конкретная критика психологизирующего понимания оценки как эмоциональной экспрессии у адептов «внутренней формы слова». А. Марти, по определению М.М.Б., «отрывает оценку от значения, считая ее побочным моментом значения, выражением идивидуального отношения говорящего к предмету речи», а для Г. Г. Шпета «характерно резкое разделение предметного значения и оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы действительности» (МФП 126). И только в конце 1929 г. в статье «О границах поэтики и лингвистики» М.М.Б. решительно преодолевает заданный спором с теориями «внутренней формы слова» терминологический и понятийный зазор между социальной оценкой и экспрессивной интонацией, фактически их уравнивая. Об этом свидетельствует и псевдополемика в этой же статье с ФМЛ, т. е. полемика работ, опубликованных под именами Волошинова и Медведева, где утверждалась экспрессивность всякой интонации и синтаксической интонации отводилось место частного случая, нижнего предела экспрессивной (Волошинов 1930. С. 236–237). Наконец, в этой же статье в качестве выражения социальной оценки вводится понятие «ценностной экспрессии» (там же. С. 227). Весь этот ряд терминологических уточнений, а также намеренное отмежевание от «идеалистической» эстетики Б. Кроче (там же) лишь свидетельствуют о том, насколько тесно содержание понятия «социальная оценка» связано с действительной философской проблематикой первой четверти XX в. Помимо того, что в уточнениях 1929 г. сказался опыт построения новой лингвистики и философской герменевтики, осуществленный в МФП и ПТД, в этих уточнениях также содержится полемический выпад против концепции «внутренней формы» Г. Г. Шпета, согласно которой субъективные, индивидуальные оценки — созначения — выражаются посредством разного рода экспрессивных (синтаксических и риторических) фигур (Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Пб., 1923. Вып. 2. С. 112–116; там же. Вып. 3. С. 76–90; Он же 1927. С. 69, 72, 78, 89–92, 104, 123–124, 145, 152–155, 158, 170–173, 191–192, 197, 199, 200, 203, 204, 206, 208–217). Конечно, по существу концепция Г. Г. Шпета была уже сформулирована в его «Эстетических фрагментах», не говоря уже о книге 1927 г. В ФМЛ М.М.Б. охарактеризовал эту концепцию как «нелепые попытки показать внутреннюю форму в самом слове, в предложении, в периоде, вообще в языковой конструкции, взятой независимо от высказывания и его конкретной исторической ситуации» (ФМЛ 170). Однако, скорее всего, для М.М.Б. окончательная несовместимость его позиции с позицией Г. Г. Шпета в сфере общей для обоих мыслителей философской герменевтики стала очевидной только после создания МФП и ПТД. В связи с чем, в частности, и потребовалось (для разграничения, расподобления сходных терминов) уточнение ранних формулировок, данных в ФМЛ, чтобы исключить всякую возможность психологизации понятия «экспрессивность», которая присутствует в истолковании этого понятия у Г. Г. Шпета. В комментируемом определении и ниже в 4-ой главе «Проблема формы» (С. 319) «эмоционально-волевой момент», «эмоционально-волевая тональность», «эмоционально-волевая реакция» толкуются как категории психологической эстетики или явления психологического плана, однако всякий раз употребляются в одном контексте с понятиями «ценностное значение», «ценностное отношение», «оценка» в качестве их эквивалентов. Понятие «эмоционально-волевой тон», как и ряд производных от него, обосновано в ФП и используется в первых главах АГ. Уступительную оговорку в ВМЭ о его психологическом аспекте следует рассматривать скорее как извинительное указание на его происхождение, тем более в статье, предназначенной для публикации в 1924 г. в открытой печати, чем как на его действительное — устойчивое — содержание. В статье «Слово в жизни и слово в поэзии» определение ценностного значения формы, ее активного характера сопровождается сходной оговоркой: «Психологическая эстетика называет это «эмоциональным моментом» формы» (Волошинов 1926. С. 259). В ФМЛ отмечается, что категория социальной оценки противостоит тем ложным выводам, к которым приводит «понимание оценки, как индивидуального акта, распространенное в современной "философии жизни"» (ФМЛ 171; ср. там же. С. 75). Но и понятие «эмоционально-волевой тон» обосновывается в ФП в процессе критики риккертианского понимания оценки (С. 33, 35). Правда, следом — по поводу обозначения эмоционально-волевым тоном момента активности в переживании — делается оговорка: «этот термин, употребляемый в эстетике, имеет там более пассивное значение» (С. 36). Итак, эмоционально-волевой тон, по определению М.М.Б., и есть не «общая», а «действительная оценка» (С. 35). Это определение эмоционально-волевого тона сохраняется во всех многообразных контекстах ФП и АГ. Так, в V и VI главах АГ эмоционально-волевые тона используются и выражаются в их жизненной конкретности — радость, печаль и т. п. Оценка, определяемая как социальная, какие бы привычные ассоциации ни вызывало это понятие, подразумевает тот же содержательный объем, что и понятие эмоционально-волевого тона. Естественно, социальная оценка связана с другой — лингвистической — проблематикой философской герменевтики. Этим обстоятельством объясняются и особенности ее терминологического употребления, и известная неузнаваемость происхождения. Таким образом, социальная оценка относится к ряду тех новых терминологических образований, посредством которых осуществляется трансляция понятийного каркаса ранних работ в контекст бахтинской философской герменевтики второй половины 1920-х гг.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Книги похожие на "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Бахтин - Том 1. Философская эстетика 1920-х годов"
Отзывы читателей о книге "Том 1. Философская эстетика 1920-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.