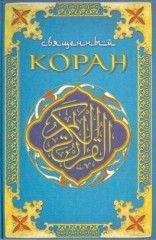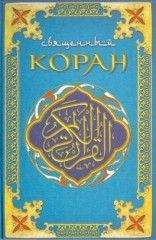В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Эмбриология поэзии"
Описание и краткое содержание "Эмбриология поэзии" читать бесплатно онлайн.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tetes[111]
обсуждался сто раз. Одни его (справедливо) считачи весьма выразительным; отечественный наш Остолопов (1821) приводит его в «Словаре древней и новой поэзии», по–видимому, с одобреньем; но известный «стиховед» Клэр Тиссёр (1893) не посовестился назвать его худшим стихом Расина, и даже такой отнюдь не заурядный критик, как Альбер Тибоде в создавшей ему славу книге о Малларме (1912. С. 200) называет этот стих «плохим стихом о змеях» и несуразно сопоставляет его со стихом Малларме, столь же поспешно отвергаемым им (но где к свистящим примешана шипящая, чего у Расина нет) и со стихом Буало [112], действительно неудачным, но который и не позволяет предполагать никакого выразительно–изобразительного намерения. И точно так же (но по поводу «скоплений» не с, а р) обладавший тонким поэтическим слухом исследователь французской просодии и фонетики Морис Грам- мон осудил восхищавший Теофиля Готье стих Сент–Бёва
Sorrente m'a rendu mon doux reve infini[113]
считая, что рокочущие повторенья р французской речи всюду и всегда вредят, но вовсе себя и не спросив, нет ли случаев, когда благозвучием позволительно бывает пожертвовать, как жертвуют им порой, и совершенно законно, в другой — бессловесной — музыке. Но как бы то ни было, можно вспомнить, в осьмнадцатый век еще раз заглянув, что Руссо, музыку любивший, ее и о ней писавший, до того испугался повторения звуков руа–руа (trois cents rois) в своей фразе о римском Сенате, который хотелось ему назвать, обличая олигархию, собранием трехсот королей, что, наперекор истории, сократил до двухсот число этих олигархов.
Так что о «благогласии» иные заботятся всерьез, тогда как об «уподобительности» многие серьезные люди, и в те, и в последующие, и особенно в наши времена, полностью ее отрицая, и рассуждать отказывались. Предоставляли Остолопову называть расиновский стих «изображающим шипение и свист змеи…»
— Да слышал ли он когда‑нибудь сей свист?
— А стих Сент–Бёва, несомненно нарочитый, он сам о нем пишет, любуясь им…
— Что ж, по–вашему, Сорренто изображает, что‑ли?
— Нет, я этого не думаю. Но вы‑то помните: «Полюбуйтесь же вы, дети / Как в сердечной простоте / Длинный Фирс играет в эти / Те, те, те и те, те, те»}
— Помним. В сердечной простоте и вспоминаем. Это насчет карточного долга. Дальше Пушкин комплимент «черноокой Россети» из тех же местоимений смастерил.
— Ну, а третья строфа. Как лирически он ее начал! И в тот же миг другие, «ненужные» те в нее вставил: «О, какие же здесь сети / Рок нам с? м*лет в темноте…» Зачем же он это, или отчего?
— Не знаем и знать не желаем. Повторы и всё тут. Кончать эту песенку пора.
6. Повторы. Ну и что ж?
Петербургский гимназист, класса пятого или шестого — Петькой, должно быть, его звали — сочинил некогда рассказик, все слова которого начинались на букву пе. «Проснулся по–праздничному поздно. Потянулся, понежился…» (Больше догадываюсь, чем вспоминаю.) «Потом подумал: пора! Помоюсь, приоденусь, пойду погулять. Погода прекрасная!» Так и продолжалось; хватило на страничку. Упоминались портерная, половой, пиво, полтинник, полпорции печенки, переулок, проспект. Наконец, не помню уж на каких пе, докосгылял сочинитель до Набережной, и тут— обернулся поэтом. Окончания его басенки, с той поры, как ее слышал, так я и не забыл: «Птички поют. Пушки палят. Праздник!»
Как удивился бы он, если б узнал, что в девятом веке монах Убальд посвятил Карлу Лысому целую поэму, каждое слово которой начиналось с той же буквы, с какой начинается латинское слово «лысый», а также имя короля- императора. Произносилась эта буква (в отличие от августова века) на два уже лада (к и ц), но не в звуках тут дело, и существует кроме того (значительно более поздняя) латинская поэма, насчитывающая 850 стихов, все слова которой начинаются как раз на петину букву. Автор ее и псевдоним себе соответственный придумал: Публиус Порциус, памятуя о предмете поэмы, заглавие коей я вольно — ему в угоду — переведу: «Побоище поросят». О ней и Остолопов наш вкратце трактует, под словом «тавтограмма». Обе поэмы упоминаются в классическом для тех времен, переиздававшемся множество раз трактате Дю Марсэ о тропах (1730), в качестве куриозов [114], с улыбкой снисхождения: мы, в наш просвещенный век… («Гармонии» де Пииса, метившей, правда, чуть повыше, он не предвидел). Остолопов начисто возмущен. Вспоминает латинскую пословицу «глупо заниматься трудным вздором» и кончает в сердцах: «К чести нашей поэзии, у нас нет тавтограмм».
Увы, прошло без малого сто лет, и нашу прозу Петенька обесчестил. Именно тавтограмму или цепь аллитераций — литеры или граммы, это ведь всё буквы — он в своей тетрадке и нацарапал. Только все же свой рассказик он под конец, нечаянно должно быть, и на голос положил. Те гармонии «изразительные» к бумаге прилипли, если же и прозвучали, то скрипуче, а его последние пять слов хочется вслух произнести. Звук п при этом главной роли не играет. Действенна тут скорей одинаковость сочетания слов в первой и второй их паре, хорошо вступающее в конфликт с трудно согласуемыми (оксиморон тут не за горами) птичками и пушками, и талантливо поставленное восклицание в конце; но некоторую поддержку всему этому единоначалие пяти этих слов тем не менее оказывает. Не важно, что всё это п (и твердые п)л важней, что это в точности одинаковые артикуляции и звуки. Благодаря им и птички поют и пушки палят как‑то бойчей, праздник становится праздничней. Элементарнейший повтор, при содружестве с другими поэтически не безразличными приемами речи, обретает поэтическую силу. Вслушайся, и на гимназическую фуражку ты возложишь скромный лавровый венок.
Элементарна аллитерация эта потому, что состоит в простом повторении одной фонемы, и всегда начальной, нескольких слов подряд. Но гнушаться ее простотой было бы все же опрометчиво. В третьем акте «Живого трупа» Федя Протасов читает цыганке Маше нечто им написанное:
«Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у мурынской площадки. Площадка эта была крепкий остров, с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман…»
Чтение прерывают. Последние шесть слов образуют пятистопный ямб (без цезуры), что не слишком, однако, ощущается, главным образом потому, что все прилагательные — хореические слова (односложный глагол служил бы им, в стихах, анакрузой). Три эти слова связаны между собой, кроме ритма, таким же единоначалием, как все пять слов петиной концовки (одинакового качества согласной, твердой у Пети, мягкой здесь), а первые два из них еще и двойным повтором те, те. Существительное, к которому они относятся, день, тихонечко звенит, им в догонку; «туман», после точки, контрастирует с ними — гласными и другим т. Музыка осложнена; но ее основа — все та же простая аллитерация, которая, однако, к тавтограммам, вовсе не музыкальным, никакого отношения не имеет. Там — ребячливая или педантическая забава; здесь — поэзия. «Коли уж ты написал, то хорошо будет», говорит перед чтением Маша. «Был темный, теплый, тихий день. — Туман». Тире я поставил, чтобы подчеркнуть паузу. И впрямь: хорошо. Надо лишь фразу эту медленно прочесть. Надо услышать ее, пусть внутренним, но к ее музыке обращенным слухом.
О. Брик прилежно выполнил в свое время («Поэтика», 1919) нетрудную, но кропотливую работу: рассортировал «звуковые повторы» (так и озаглавил он статью) [115] у Пушкина и Лермонтова, но рассортировал их совершенно так, как могла бы это сделать нынче электронная машина: по чисто внешним признакам, количественным и комбинаторным. Сколько звуков повторяется, сколько раз, в каком порядке, — больше ни о чем он себя и не спросил. Не функционально мыслил (ага, небось, испугались: по–ученому я заговорил). Функциями всех этих повторов в поэтической речи, столь различными — а порой и близкими к нулю, да и вовсе никакими — не заинтересовался. И, кроме того, выделил повторы согласных, то есть одними аллитерациями (по общепринятой терминологии) занялся, ассонансы игнорируя, и даже не упомянув о том, что в его же примерах эти два рода повторов сплошь и рядом совмещаются, да еще и так, что их действенность совместна и неделима. Наконец, в довершение беды, не учитывает он и различия между твердыми и мягкими согласными; предупреждает, правда, об этом, поясняя, что твердый и мягкий звуки («той же» согласной) «воспринимаются нами (…), как тот же звук, смягченный или отвердевший», тогда как на самом деле, при внимательном вслушиваньи в поэтическую речь, они воспринимаются как родственные между собой, но по–разному окрашенные звуки.
Беру первый, в длинной веренице его примеров (из «Мцыри»). «Так тополь, царь ее полей». Он подчеркивает два п и два л: простой (а не в обратном порядке) «двойной, двухзвучный» повтор. Но звучит в этом стихе повтор слога (полъ–поль), а начинается стих со скромной, т. е. не очень действенной аллитерации на т, и согласная эта столько же раз повторяется в нем, как и в отдельности взятые пил. Второй пример (из «Демона»): «Без руля и без ветрил». Здесь соседят сперва твердое р с мягким л, а затем мягкое р с твердым л (в том же порядке, но это как и в большинстве случаев, несущественно, так что этот принцип классификации к сути дела, т. е. к впечатлению, производимому повторами, отношения не имеет). Ощущение повтора получается, но куда более слабое, чем в приведенном под той же рубрикой стихе из той же поэмы «И пар от крови пролитой», где повторяются одинаковые (твердые) ли р, но где, кроме того, есть еще и третье р, классификации ради не учтенное, да еще и квазиповтор кро–про, не менее «красноречивый», чем зарегистрированный Бриком, а главное, сливающийся с ним в одно целое. Тогда как в тут же процитированном стихе из «Боярина Орши» «Но казнь равна ль вине моей» повтор неравнокачественных вин ощущается очень слабо; сопоставляются, собственно, звучания вна и винъ, мало между собою сходные.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эмбриология поэзии"
Книги похожие на "Эмбриология поэзии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "В. Вейдле - Эмбриология поэзии"
Отзывы читателей о книге "Эмбриология поэзии", комментарии и мнения людей о произведении.