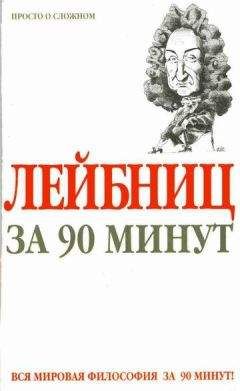Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Складка. Лейбниц и барокко"
Описание и краткое содержание "Складка. Лейбниц и барокко" читать бесплатно онлайн.
Похоже, наиболее эффективным чтение этой книги окажется для математиков, особенно специалистов по топологии. Книга перенасыщена математическими аллюзиями и многочисленными вариациями на тему пространственных преобразований. Можно без особых натяжек сказать, что книга Делеза посвящена барочной математике, а именно дифференциальному исчислению, которое изобрел Лейбниц. Именно лейбницевский, а никак не ньютоновский, вариант исчисления бесконечно малых проникнут совершенно особым барочным духом. Барокко толкуется Делезом как некая оперативная функция, или характерная черта, состоящая в беспрестанном производстве складок, в их нагромождении, разрастании, трансформации, в их устремленности в бесконечность. Образуемая таким образом бесконечная складка (сразу напрашивается образ разросшейся до гигантских размеров коры головного мозга) имеет как бы две стороны или два этажа — складки материи и сгибы в душе. Тяжелые массы материальных складок громоздятся под действием внешних сил, а затем организуются в стройную систему согласно внутренним изгибам души. Декарт использовал совершенно иной принцип монтажа: для него материя характеризуется прямолинейной протяженностью, а душа — "прямизной", выправляющей любые душевные "наклонности".
{152}
бины (фон). А вот дифференциальные отношения между этими бесконечно малыми актуальностями «тянутся к свету», т. е. формируют ясную перцепцию (зеленый цвет) из определенных смутных и исчезающих перцепций (желтый и синий цвета). И, несомненно, синий и желтый и сами могли бы стать ясными и сознательными перцепциями, но при условии того, что каждый из них будет сам по себе извлечен из дифференциальных отношений между прочими малыми перцепциями — дифференциалами различных порядков. И всегда дифференциальные отношения избирают проявляющиеся в каждом случае малые перцепции и производят или извлекают из них получающуюся в итоге сознательную перцепцию. Следовательно, дифференциальное исчисление есть психический механизм перцепции, автоматизм, который одновременно и нераздельно погружается во тьму, но обусловливает свет: от выбора малых и темных перцепций к извлечению ясной перцепции. Такой автоматизм следует понимать двояко — с универсальной и индивидуальной точек зрения. С одной стороны, в той мере, в какой один и тот же мир включен во все существующие монады, последние представляют собой одно и то же бесконечное множество малых перцепций и одни и те же дифференциальные отношения, производящие в них удивительно подобные друг другу сознательные перцепции. Тем самым все монады воспринимают один и тот же зеленый цвет, одну и ту же ноту, и каждый раз в них актуализуется один и то же вечный объект. Но, с другой стороны, актуализация в каждой монаде различна, и две монады никогда не воспримут ни одного и того же зеленого цвета, ни одной и той же градации светотени. На первый взгляд, каждая монада отдает приоритет своим дифференциальным отношениям, вызывающим у нее, следовательно, какие-то исключительные перцепции, тогда как прочие отношения она не доводит до необходимого уровня восприятия — или же допускает существование в себе малых перцепций, но вовсе не воспринимает их отношений. В предельных случаях, стало быть, все монады имеют бесконечное множество со-
{153}
возможных малых перцепций, однако дифференциальные отношения, из которых определенные селекционируются ради производства ясных перцепций, у каждой монады специфичны. Именно в этом смысле, как мы видели, каждая монада выражает тот же самый мир, что и остальные, но тем не менее обладает зоной ясного выражения, которая принадлежит исключительно ей и отличается от таких зон всех прочих монад: это ее «департамент».
То же самое обнаружится, даже если в лейбницианской классификации идей мы ограничимся «светлым» и «четким». В противоположность Декарту, Лейбниц исходит из тьмы: дело в том, что свет возникает из тьмы посредством генетического процесса. Свет к тому же погружается во тьму, и погружается непрестанно: по своей природе он — светотень, развертывание тьмы; в том виде, как его обнаруживают органы чувств, он светел более или менее}2 Тем самым разрушается предыдущий парадокс: даже если мы предполагаем, что одни и те же дифференциальные отношения устанавливаются во всех монадах, степени ясности (света), необходимой для сознательной перцепции соответственно ее порогу, они достигают не в каждой монаде. И, прежде всего, устраняются две встреченные в самом начале трудности: первая в том, что одно и тоже требование обращается то к тьме, то к свету, вторая же в том, что сам свет зависит от известного лишь смутно. Ибо свету надлежит исходить из тьмы, как бы проходя через первый фильтр, за
коим последует и множество других — для четкого и смутного и т. д.13 По сути, дифференци-
{12}
Письмо к Арно, апрель 1687: та перцепция; «пусть даже смутная и темная, посредством которой душа предчувствует будущее, и является подлинной причиной того, что произойдет с нею, а также перцепции более ясной, которую она будет иметь апостериори, после развертывания темноты». И «Новые опыты», гл. 29, § 2.
{13}
О фильтрах или градуированной шкале и об оппозиции Лейбница Декарту в этом отношении, ср. Yvon Beiaval, Leibniz critique de Descartes, Gallimard, p. 164–167 (a также Michel Serres, Le systeme de Leibniz, PUF,
I, p. 107–126). Книга Белаваля дает глубокий анализ логики идей у Лейбница.
{154}
альные отношения поистине играют роль фильтра, и даже бесконечного множества фильтров, поскольку они пропускают отдельные малые перцепции, способные в каждом случае образовать относительно ясную перцепцию. Но поскольку на каждом уровне характер фильтров меняется, следует сказать, что ясное относительно темно и абсолютно смутно, подобно тому, как отчетливое относительно смутно и абсолютно неадекватно самому себе. Каково же в таком случае, значение картезианского выражения «ясное и отчетливое», сохраняемого Лейбницем вопреки всему? Как мы можем утверждать, что привилегированная зона каждой монады является не только ясной, но и четкой, — тогда как состоит она из смутного события? Дело здесь в том, что ясная перцепция как таковая никогда не бывает отчетливой, — она скорее является «выделяемой» в смысле «примечаемой»: она резко выделяется на фоне остальных перцепций, и первый фильтр — именно тот, сквозь который она пропускает привычное, чтобы извлечь из него примечательное (ясное и выделяющееся).14 Но отчетливое в собственном смысле слова предполагает иной фильтр, принимающий примечаемое за регулярное и извлекающий из него сингулярности: внутренние сингулярности идеи или отчетливой перцепции. Нужно ли упоминать еще и третий фильтр, адекватного или даже полного, каковой извлекает из сингулярного ординарное, — так что организация фильтров становится циклической системой, хотя этот последний фильтр
{14}
Как раз в этом смысле Лейбниц писал: «Мы обращаем внимание лишь на наиболее выделяющиеся мысли», т. е. на наиболее заметные («Новые опыты», II, гл. 1, § 11). Такие мысли называются отчетливыми исключительно в силу того, что они наиболее ясны и наименее темны. Потому-то Лейбниц и смог написать: «Наиболее отчетливо душа выражает то, что принадлежит к ее телу» (письмо к Арно, апрель 1687), или: «отчетливее представляет она (монада) то тело, которое собственно с ней связано» («Монадология», § 62), хотя речь тут идет только о ясности.
{155}
нам не по силам? И как раз совокупность фильтров позволила бы сказать нам вслед за Бальтазаром: «Все ординарно!», и одновременно: «Все сингулярно!».
Здесь нас интересует не столько развитие теории данной идеи, сколько различные смыслы сингулярного. Мы встречались с сингулярным в трех смыслах: прежде всего, сингулярное — это инфлексия, точка инфлексии, продолжающейся до смежной с другими сингулярностями области, благодаря чему сообразно отношениям дистанции образуются мировые линии; затем — это центр искривленности вогнутой стороны в той мере, в какой он определяет точку зрения монады согласно отношениям перспективы; наконец, это заметное, сообразно дифференциальным отношениям, формирующим в монаде перцепцию. Мы увидим, что существует и четвертый вид сингулярности, образующий в материи или протяженности, «экстремумы» — максимумы и минимумы. И уже — в самых глубинах барочного мира и познания — манифестируется эта подчиненность истинного сингулярному или примечательному.
Но вернемся к перцепции. Все монады — даже если не в одном и том же режиме — смутно выражают целый мир. Каждая таит в себе бесконечное множество малых перцепций. И друг от друга они отличаются не «силой» или «слабостью». Отличает их именно зона ясного, приметного или привилегированного выражения. В предельном случае можно представить себе «совершенно нагие монады», и у них уже не будет этой зоны света: они будут жить в ночи или почти в ночи, в мелькании смутных и малых перцепций, все время их заглушая. Никакой дифференциальный механизм взаимной обусловленности не будет заниматься селекцией этих малых перцепций, чтобы извлечь из них ясную перцепцию. Такие монады не воспримут ничего приметного. Но ведь такое предельное состояние мыслимо лишь по смерти, а во всех остальных случаях это не более чем абстракция.15 Даже в самом микроскопическом
15 «Монадология», § 20–24: «Если бы в наших представлениях не было ничего ясного и, так сказать, выдающегося и ничего более высокого разряда, то мы постоянно находились бы в совершенно бессознательном состоянии. И таково положение совершенно простых монад». Письмо Харт-Зекеру, 30 октября 1710 (GPh, III, p.508): «По правде говоря, нет души, спящей вечно».
{156}
животном брезжат какие-то проблески, позволяющие ему распознавать пищу, врага, а порой — и партнера: если понятие «живое существо» подразумевает душу, то объясняется это тем, что органические белки уже свидетельствуют о какой-то перцептивной, распознавательной и различительной активности, словом, о некоей «изначальной силе», не объяснимой ни физическими импульсами, ни химической аффинностью («деривативные силы»). К тому же нет реакций, которые происходили бы от возбуждений; происходят они от органических экстериорных действий, свидетельствующих о наличии в душе внутренней перцептивной активности. Если у живого существа есть душа, то это значит, что оно наделено способностью воспринимать, различать или распознавать, — и всякая зоопсихология есть, прежде всего, психология перцепции. В большинстве случаев душа довольствуется немногочисленными ясными или выделенными перцепциями: у клеща, к примеру, их три — перцепция света, обонятельная перцепция добычи и осязательная перцепция выбора лучшего места, — все же остальное в
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Складка. Лейбниц и барокко"
Книги похожие на "Складка. Лейбниц и барокко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко"
Отзывы читателей о книге "Складка. Лейбниц и барокко", комментарии и мнения людей о произведении.