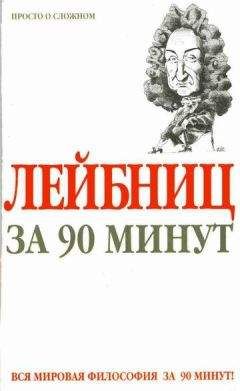Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Складка. Лейбниц и барокко"
Описание и краткое содержание "Складка. Лейбниц и барокко" читать бесплатно онлайн.
Похоже, наиболее эффективным чтение этой книги окажется для математиков, особенно специалистов по топологии. Книга перенасыщена математическими аллюзиями и многочисленными вариациями на тему пространственных преобразований. Можно без особых натяжек сказать, что книга Делеза посвящена барочной математике, а именно дифференциальному исчислению, которое изобрел Лейбниц. Именно лейбницевский, а никак не ньютоновский, вариант исчисления бесконечно малых проникнут совершенно особым барочным духом. Барокко толкуется Делезом как некая оперативная функция, или характерная черта, состоящая в беспрестанном производстве складок, в их нагромождении, разрастании, трансформации, в их устремленности в бесконечность. Образуемая таким образом бесконечная складка (сразу напрашивается образ разросшейся до гигантских размеров коры головного мозга) имеет как бы две стороны или два этажа — складки материи и сгибы в душе. Тяжелые массы материальных складок громоздятся под действием внешних сил, а затем организуются в стройную систему согласно внутренним изгибам души. Декарт использовал совершенно иной принцип монтажа: для него материя характеризуется прямолинейной протяженностью, а душа — "прямизной", выправляющей любые душевные "наклонности".
{94}
разно каждому уровню, становится субъектом. Это знаменует собой разрыв с классической концепцией понятия, как чего-то отвлеченного: понятие — уже не сущность и не логическая возможность своего объекта, но метафизическая реальность соответствующего субъекта. Можно сказать, что все отношения являются внутренними именно потому, что предикаты — это не атрибуты (как в логической концепции).
Подтверждение этому пришло со стороны лейбницианской теории субстанции; кажется, будто вся эта теория создана для такого подтверждения. Существует два номинальных свойства, относительно которых, в принципе, согласны все — от Аристотеля до Декарта: с одной стороны, субстанция есть конкретное, определенное, индивидуальное, в том смысле, в каком Аристотель говорит о вот этом, а Декарт — об этом камне; с другой же, субстанция есть субъект присущности или включения в том смысле, в каком Аристотель определяет акциденцию как «присутствующее в субстанции», а Декарт утверждает, что субстанция есть «вещь, в коей формально или заметным образом существует постигаемое нами».28 Но когда требуется найти реальное определение субстанции, кажется, что два упомянутых свойства следует отбросить, чтобы предпочесть им в понятии некую сущность или же какой-нибудь необходимый и универсальный сущностный атрибут. Так, для Аристотеля атрибут не содержится в субъекте как одна из его акциденций, но утверждается о субъекте — так что его можно трактовать как «вторую субстанцию»; для Декарта же сущностный атрибут совпадает с субстанцией до такой степени, что индивиды наделяются тенденцией становиться не более, чем модусами атрибутов, рассматриваемых в общем. Атрибуция и определение субстанции через атрибуцию далеко не являются подтверждением индивидуальности и включения, но ставят их под сомнение.
28 Поэтому Лейбниц иногда кратко описывает присущность предиката, как соответствующую общему мнению («как молвят») или, в частности, Аристотелю.
{95}
Согласно Декарту, первый критерий субстанции есть простое; простое понятие: его элементы могут различаться лишь при помощи абстрагирования, посредством разума (таковы протяженность и тело, мысль и дух). И вот, Лейбниц изобличает простоту как псевдологический критерий: дело в том, что существует много простых понятий (как минимум, три), не имеющих никакого отношения к субстанции. О монаде как о простом понятии он заговорит лишь в поздний свой период, — когда оценит отдаленные опасности и продвинется вперед в решении проблемы двух видов субстанций, из которых одни считаются простыми только потому, что другие являются сложными. Но на протяжении всего своего творчества Лейбниц ссылается на единство бытия, как на метафизический критерий, а не на простоту понятия: Арно заметил, что это необычный метод, поскольку тем самым мы лишаем себя возможности определить субстанцию через сущностный атрибут, который был бы противопоставлен «модальности, или способу существования», т. е. движению или изменению. На что Лейбниц с иронией ответил, что для него «посредственные философы» — те, кто принимает во внимание степени единства, — Аристотель наряду с Декартом.29 Пока мы определяем движение как «последовательное существование движущегося предмета в разных местах», мы воспринимаем только уже свершившееся движение, а не внутреннее единство, к которому оно отсылает, когда свершается. Свершающееся движение связано сразу и с единством в пределах мгновения, в том смысле, что последующее состояние движущегося предмета должно получиться «из его же настоящего состояния посредством некоей естественной силы», — и с единством, интериорным для
{29}
Ср. письмо Арно от 4 мая 1687 и письмо к Арно от 30 апреля. Андре Робине (Robinet) показал, что Лейбниц долгое время — до 1696 года — избегал упоминания «простой субстанции» (Architectonique disjonctive, automates systematiques et idealite transcendantale dans l'&uvre de Leibniz, Vrin, p. 355, — и очерк Anne Becco, Du simple selon Leibniz, Vrin.)
{96}
всей продолжительности движения (физический критерий субстанции). И — с более глубинной точки зрения — качественное изменение отсылает к некоему активному единству, способствующему прохождению движущегося предмета через его мгновенное состояние, но также и обеспечивающему такое прохождение в целом (психологический критерий, перцепция и стремление).30 Субстанция, следовательно, означает двойственную спонтанность движения как события и изменения как предиката. Если правильным логическим критерием субстанции является включение, то объясняется это тем, что предикация не есть атрибуция, а субстанция — не субъект при атрибуте, а единство, интериорное событию, активное единство изменения.
Помимо Простого, Декарт выдвинул и другой критерий, Полное; этот критерий указывает на реальное различение. Но Полное касается различий, устанавливаемых разумом, а значит — это только понятие: полное не есть целое (то, что содержит все, принадлежащее к определенной вещи), полное есть реально различающееся, т. е. то, что можно «помыслить» само по себе, отрицая принадлежащее к иной вещи. Именно в этом смысле, по Декарту, и мыслящая, и протяженная вещь являются полными, или реально различающимися, а значит — и отделимыми. Но и тут Лейбниц демонстрирует, что Декарт недостаточно глубоко продумал свое понятие: если у двух вещей есть общие реквизиты, их можно помыслить реально различающимися, но не обязательно отделимыми. Декарт не уразумел, что даже простые существа и индивидуальные субстанции имеют реквизиты, будь это в выражаемом или общем мире, или во внутренних свойствах, по которым они сходятся (форма-материя, действие-потенция, активное единство-ограничение). Как мы уже видели, реально различаемое не является ни с необходимостью отделенным, ни отделимым, а неотделимое может быть
{30}
«О природе в себе», § 13: о перемещении и качественном изменении.
{97}
реально различающимся.31 В предельном случае — и согласно утверждению стоиков, — нет ничего неотделимого или отдельного, но — благодаря реквизитам — все, в том числе и субстанции, как бы находится во взаимном сговоре. Неверно, что субстанция будет иметь один атрибут постольку, поскольку она имеет бесконечное множество модусов, — но также неверно, что у множества субстанций не бывает общего атрибута, поскольку они обладают разными реквизитами, образующими еще один из их критериев (эпистемологический критерий).32 Итак, существует пять критериев субстанции: метафизический — единство бытия; логический — включение предиката в субъект; физический — единство, интериорное движению; психологический — активное единство изменения, эпистемологический — реквизиты неотделимости. Все это исключает определение субстанции через существенный атрибут, а также совпадение предикации с атрибуцией.
Эссенциализм считает Декарта классиком, а вот мировоззрение Лейбница представляет глубинным маньеризмом. Классицизм имеет потребность в каком-то устойчивом и постоянном атрибуте для субстанции, маньеризм же текуч, и спонтанность манер (проявлений) заменяет в нем существенность атрибута. Но можно ли сказать, что боль спонтанна, например, в душе собаки, которую ударяют палкой, когда она ест суп, — или же в душе Цезаря-ребенка, когда его кусает оса, пока он сосет грудь? Ведь удар или укус получает не душа. Значит, необходимо не придерживаться абстрактных понятий, а восстановить серии. Движение палки началось не с удара: сзади подошел несущий палку человек, а затем он поднял ее, чтобы, в конце концов, обрушить на тело собаки. Это сложное движение обладает внутренним единством, — подобно тому, как в душе собаки сложное изменение обладает единством ак-
{31}
«Является ли разделяемость следствием реального различия», письмо к Мальбраншу, GPh, I, p. 325–326.
{32}
Против картезианского атрибута, см. переписку с Де Вольдером (GPh, II), особенно от 20 июня 1703. тивным: боль не пришла на место удовольствия внезапно, но оказалась подготовленной тысячей малых перцепций, шумом шагов, запахом враждебно настроенного человека, впечатлением от поднимающейся палки, — словом, всей неощутимой «тревогой», из которой боль вышла «спонтанно», т. е. интегрируя предшествующие модификации как бы при помощи некоей естественной силы.33 Если Лейбниц придает такое значение вопросу о душе у животных, то причина этому в том, что он умел ставить по ней диагноз общему беспокойству настороженного зверя, пытающегося уловить неприметные симптомы того, что может превратить его удовольствие в боль, погоню — в бегство, покой — в движение. Душа «доставляет себе» боль, доводящую до ее сознания серию малых перцепций, каковые она едва заметила, поскольку они вначале были как бы погребены в ее глубинах. Образ глубин души, темного фона, «fuscum subnigrum» преследует Лейбница неотступно: субстанции, или души «извлекают все из собственных глубин (фона)». Вот и второй аспект маньеризма, без которого первый остался бы бессодержательным. Первый — спонтанность проявлений (манер), противостоящая существенности атрибутов. Второй — вездесущность темных глубин (фона), противостоящая свету формы; без этих глубин (фона) неоткуда было бы возникнуть и проявлениям (манерам). Полная формула маньеризма субстанций такова: «Все в них рождается из их собственных глубин, совершенно спонтанно».34
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Складка. Лейбниц и барокко"
Книги похожие на "Складка. Лейбниц и барокко" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жиль Делёз - Складка. Лейбниц и барокко"
Отзывы читателей о книге "Складка. Лейбниц и барокко", комментарии и мнения людей о произведении.