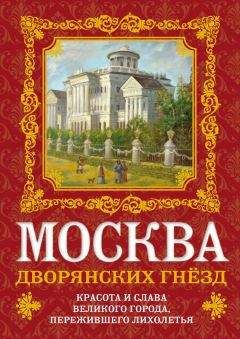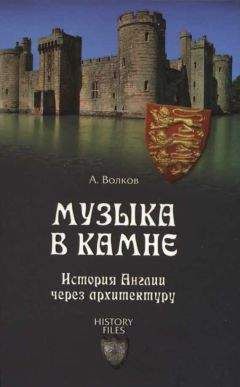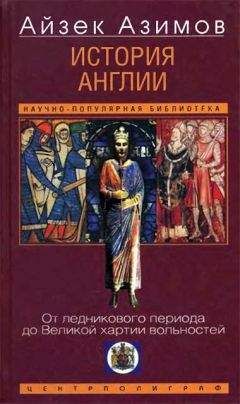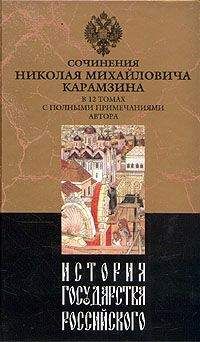Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "История культуры Санкт-Петербурга"
Описание и краткое содержание "История культуры Санкт-Петербурга" читать бесплатно онлайн.
Соломона Волкова называют «русским Эккерманом»: он приобрел известность своими опубликованными на многих языках диалогами с балетмейстером Джорджем Баланчиным и поэтом Иосифом Бродским, скрипачом Натаном Мильштейном и композитором Дмитрием Шостаковичем. За книгу о Шостаковиче Волков был удостоен Американской премии имени Димса Тэйлора, за книгу о Бродском – премии журнала «Звезда». «История культуры Санкт-Петербурга» была опубликована в США, Англии, Финляндии, Бразилии и Италии. Пресса отмечала, что это – первая всеобъемлющая история культуры великого города, на равных входящего в круг мировых столиц современной цивилизации: Вены, Парижа, Лондона, Берлина и Нью-Йорка.
Ситуация начала меняться исподволь. Подготовленная общим подъемом русской культуры к середине XIX века в музыке, а затем и в живописи, произошла подлинная революция. Эта революция изменила также представления современников о Петербурге.
Слишком долго он отражался в зеркале литературы. Конечно, это зеркало держали руки гениев: Пушкина, Гоголя, Достоевского. Незамутненный мифологический облик величественного, прекрасного города, имперской столицы, сменился в этом зеркале усилиями литераторов на иное отражение – фантасмагорическое, с чертами ужасными, но все еще прекрасными. А затем и это изображение стало дробиться, угасать, исчезать.
И тут зеркало, в которое смотрелся Петербург, перешло в руки совсем других людей: музыкантов, а вслед за ними – художников. Их судьбы были причудливы, загадочны и странны в неменьшей степени, чем судьба рокового города, во дворцах и жалких квартирках которого они жили, по шикарным манящим проспектам которого беспечно или задумчиво фланировали, на гранитных набережных которого застывали в глубокой, черной тоске и захватывающую легенду которого они преобразили чудесным, решающим образом до неузнаваемости – постепенно, но необратимо.
И вот как это случилось.
Глава 2
«Во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность». Это было сказано художником Александром Бенуа, сыгравшим уникальную роль в реанимации петербургского мифа в начале XX века. Его младший современник, музыковед Борис Асафьев, идет еще дальше в утверждении верховенства музыки в воссоздании мифа о Петербурге: «Петербургской культуры теперь не вычеркнуть из истории России и человечества. Музыка же играет в этой культуре, пожалуй, доминирующую роль. И в музыке – творчество Чайковского, овеянное иллюзиями петербургских белых ночей и зимними «внекрасочными» контрастами: черных стволов, снежной пелены, давящей тяжести гранитных масс и четкости чугунных плетений».
В этом пассаже Асафьева, записанном в 1921 году в голодном, вымирающем Петрограде, скрыт парадокс: музыка Чайковского описана так, будто она является картиной или, скорее, рисунком работы Александра Бенуа. Взаимодействие музыки и живописи в создании нового облика Петербурга засвидетельствовано здесь очевидцем инстинктивно и непредвзято.
Музыка в этом процессе была впереди. Петербургская музыка XIX века, вслед за литературой, оказала также сильное влияние на европейскую и мировую культуру. Русское изобразительное искусство XIX века об этом и мечтать не могло.
Как же случилось, что музыка, это наименее изобразительное из искусств, оказалась поначалу более верным зеркалом жизни в Петербурге, чем живопись? Ответ, вероятно, кроется не только в особенностях развития изобразительного искусства и музыки в России, но и в уникальности существования Петербурга – города, чей внешний облик и внутреннее содержание часто не совпадают.
Внешне Петербург XVIII–XIX веков мог представляться торжеством рационализма. Сформированная барокко и неоклассицизмом в его различных проявлениях, русская столица на протяжении долгого времени представала равно для жителей и наблюдателей вершиной архитектурной гармонии. Такой и отображали ее бесчисленные картины, акварели, рисунки, гравюры и литографии Федора Алексеева (1755–1824), Андрея Мартынова (1768–1826), Степана Галактионова (1779–1854) и Василия Садовникова (1800–1879), автора знаменитой литографической панорамы Невского проспекта, которая рекламировалась следующим образом: «Здания срисованы с натуры с удивительной верностью, ни одна вывеска не забыта…»
Эти изображения, часто привлекающие своей виртуозностью, оставляют тем не менее впечатление недосказанности: тщательно проработанные, одинокие, какие-то потерянные фигурки людей – лишь стаффаж на фоне прекрасных, но эмоционально абсолютно нейтральных классицистских строений и огромных площадей Петербурга. В этих работах нет ни подлинного «лица» Петербурга, ни его «души», ни его неподдельной величественности, ни внутренней трепетности и одухотворенности.
Художники, точно фиксируя приметы города, тем не менее не передавали и не объясняли ни его магической притягательности, ни отталкивающей жестокости. По сравнению с более поздним «Невским проспектом» Гоголя литографии Садовникова (их продавали в виде двух длинных лент, намотанных на катушки) – всего лишь курьез.
Гораздо более человечен «Волшебный фонарь» (полное название – «Волшебный фонарь, или Зрелище с. – петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом, соответственно каждому лицу и званию») – появившийся в одно время с панорамой Садовникова и выходивший в свет ежемесячно сборник раскрашенных от руки литографий с развернутыми подписями-диалогами.
Перелистывая страницы «Волшебного фонаря», невольно поражаешься разнообразию товаров и услуг, предлагавшихся покупателям на улицах Петербурга начала XIX века. С симпатией изображенные на угловатых трогательных литографиях колоритно одетые персонажи (кроме русских здесь немцы, французы, финн, еврей и даже бухарец) продают голландские коврижки, французские хлебцы, сайки, пышки и блины, апельсины, яблоки, орехи, чернослив, вареные груши, конфеты, горячий сбитень, квас, молоко, говядину, телятину, сосиски, окуней, ершей, дичь, цветы, посуду, часы, гребни, иголки, булавки, половые щетки, ваксу, платки и шали, журналы и газеты и даже гипсовые бюсты Гомера, Демокрита и… Шарлотты из «Вертера» Гёте.
В «Волшебном фонаре» незамысловатость рисунков и диалогов равно умилительна. Но, скажем, разрыв между лучшими страницами появившейся почти три десятилетия спустя «Физиологии Петербурга» под редакцией Некрасова и сопровождающими их гравюрами очевиден и иногда удручающ. В тексте зачастую – подлинная эмоция, изображения же по-прежнему неуклюже-условны, хотя внешне и более натуралистичны. Художники явно не поспешали за писателями в их открытии «нового» Петербурга и в радикальном изменении отношения к «старому».
Ужас и величие петербургского мифа передала, быть может, только одна картина той эпохи, причем вовсе не связанная впрямую с темой Петербурга. Это «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, русского живописца петербургско-итальянской выучки, – огромное полотно, изображающее описанную Плинием-младшим гибель античного города под лавой Везувия, начатое в Риме в 1827 году (то есть за семь лет до публикации знаменитого романа лорда Булвер-Литтона на эту же тему) и завершенное в 1833 году.
Картина Брюллова, произведшая большое впечатление на европейцев, из Парижа на корабле «Царь Петр» была доставлена в Петербург, где ее «высочайше одобрил» Николай I, и выставлена в Академии художеств. Триумф был беспримерный, как ни у одной русской картины до того.
«Вельможи и художники, светские люди и ученые, простолюдины и ремесленники – все проникнуты были желанием видеть картину Брюллова, – свидетельствуют «Прибавления к «Северной пчеле» за 21 октября 1834 года. – Потребность эта с одинаковою силою разлилась по всей столице, во всех состояниях и классах, в палатах Английской набережной, в мастерских и магазинах Невского проспекта, в лавках Гостиного и Апраксина двора, в бедных жилищах чиновников на Песках и в конторах на Васильевском острове».
В Петербурге Брюллова называли не иначе как «божественным Карлом». Сам Пушкин был взволнован и очарован «Последним днем Помпеи» настолько, что начал писать посвященное картине стихотворение (оно осталось незаконченным):
Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя
Широко развилось, как боевое знамя,
Земля волнуется, – с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,
Под каменным дождем бежит из града вон.
Гоголь разразился восторженной статьей, начинавшейся так: «Картина Брюллова – одно из ярких явлений XIX века. Это – светлое воскресение живописи…» Император удостоил художника милостивой аудиенции и пожаловал ему орден Святой Анны III степени.
Николая в картине Брюллова привлекло столь ценимое им виртуозное владение кистью. (Ему также, как рассказывают, приглянулась молодая жена художника. Темпераментный гордый коротышка Брюллов ревновал к великану Николаю и безумно злился. Однажды утром жена его, стоя у окна, увидела, что император – в санях, запряженных вороным конем, – подъезжает к Академии художеств, в здании которой жили Брюлловы. Не сдержавшись, она невольно воскликнула: «Ах, Государь!» Разъяренный Брюллов подскочил к жене и с криком – «А, узнала!» – вырвал у нее из уха серьгу, разорвав при этом мочку.)
Других петербуржцев в «Последнем дне Помпеи» притягивало вдохновенное, открыто романтическое изображение природного бедствия, буквально пожирающего прекрасный город и его обитателей: напоминание о беззащитности их собственного метрополиса перед беспощадными силами природы. В драматичности картины Брюллова было что-то оперное (первым это отметил еще Гоголь, почему-то с одобрением, – таковы уж были вкусы эпохи), но петербуржцы все равно поеживались. Что-то очень глубинное, копошащееся в подсознании затронул и разбудил в них художник.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История культуры Санкт-Петербурга"
Книги похожие на "История культуры Санкт-Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Соломон Волков - История культуры Санкт-Петербурга"
Отзывы читателей о книге "История культуры Санкт-Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.