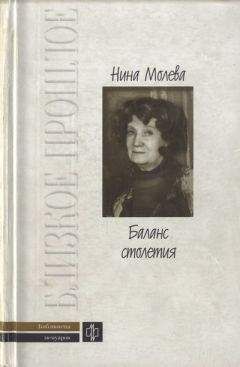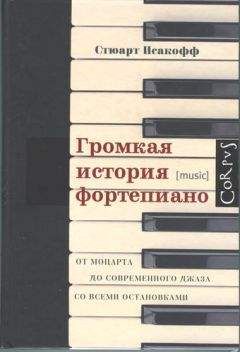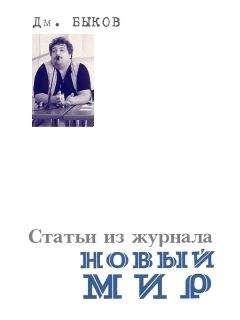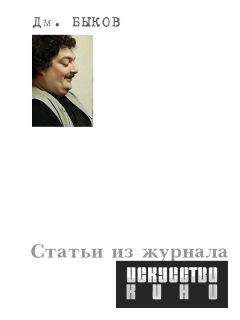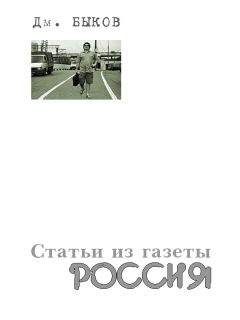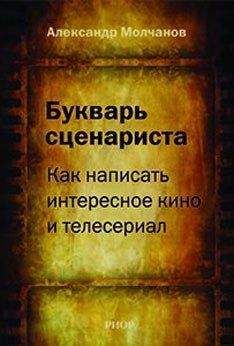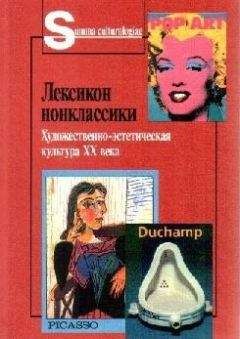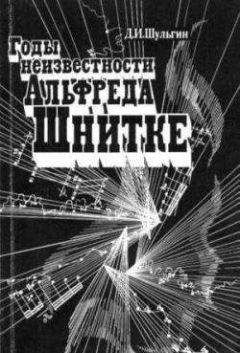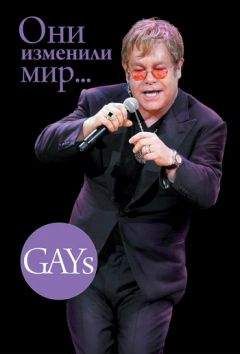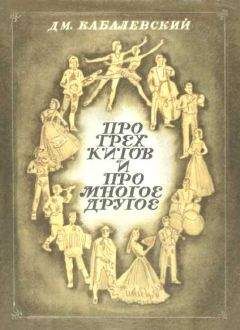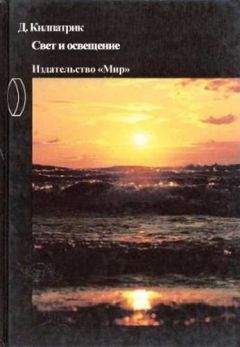Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Сеанс»
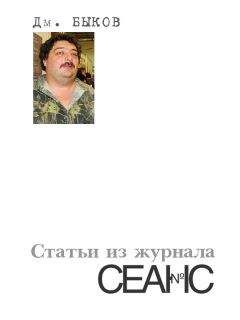
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи из журнала «Сеанс»"
Описание и краткое содержание "Статьи из журнала «Сеанс»" читать бесплатно онлайн.
Современное российское кино и телевидение, дозоры Лукьяненко, вампиры Пелевина, манифест Михалкова, Арканар Германа, формат, цензура, потерянные 90-е — это и другое применительно к литературе, экрану и жизни в статьях 1994–2010 годов из журнала «Сеанс».
14 октября 2010 года
Три манифеста
В конце прошлой недели в сети появился манифест Никиты Михалкова. «Сеанс» публикует статью Дмитрия Быкова об этом неоднозначном тексте и других элементах вечной русской драмы.
Два документа по-настоящему взбудоражили общественное мнение осенью 2010-го года — манифест Никиты Михалкова и последнее слово Ходорковского в Хамовническом суде: да простится мне их постановка в один ряд. Общественная реакция была симптоматична, и в обоих случаях симптоматично громка.
Подавляющее большинство блогеров — а другого инструмента для повседневной социометрии у нас нет — резко, в выражениях крайне нетерпимых осудили Михалкова и столь же горячо поддержали Ходорковского, хотя ещё пять лет назад всё было бы ровно наоборот. Именно это позволяет понять нечто весьма глубокое и неоднозначное в михалковском манифесте.
Манифест Михалкова есть деяние добровольное и, так сказать, спонтанное. Последнее слово на суде — часть судебной процедуры. Ходорковский мог и отказаться от него, подобно Лебедеву, но от него многого ждали.
От Михалкова никто ничего не ждал, и никакая процедура ему не диктовала. Манифест был вызван к жизни соображениями более серьёзными, а именно эстетическими. Простите за рифму — без манифеста было пустое место. «На нашем месте в небе должна быть звезда».
В пьесе, которую вот уже седьмой век кряду являет собою русская жизнь, почему-то обязательно должны быть одни и те же герои и злодеи, консерваторы и реформаторы — вне зависимости от их личных качеств. Поэтому почти все наши реформаторы и консерваторы так злы и раздражительны: по личным своим качествам они предпочли бы играть совсем другие роли либо не играть вовсе никаких. Но распределение ролей в этом театре происходит не по чьей-то злой воле, а механически: с механизмом спорить бессмысленно.
У нас должен быть консерватор во власти, и должен быть оттепельный реформатор, хотя они почти ничем друг от друга не отличаются (в том числе и по результатам своей деятельности). У нас должен быть отвратительный прислужник режима и его прогрессивная жертва. То и другое должно быть манифестировано. И манифесты обязаны появиться одновременно.
Драматургия — закон более сильный, чем история и политология. По крайней мере в России, где история подчиняется не общественным и не экономическим, а эстетическим законам. Есть такие культуроцентричные страны, смешно с этим спорить.
Как примитивно мыслящий эмпирик, который ни в чём не видит закономерностей, а ценит только факты, — я готов был бы изучить историю михалковского манифеста и, пожалуй, даже объяснить, как он получился.
Никита Сергеевич — человек быстроумный (или, если кому-то не нравится «умный», скажем «быстрохитрый»), он работает на опережение, отлично понимая, что наибольший успех сейчас могут иметь максимально отвратительные тенденции, раз уж общий вектор государства направлен к распаду. Не знаю, понимает ли он это, но интуитивно чувствует.
Он также умеет первым эти тенденции обозначить, стараясь вести себя не только максимально отвратительным, но и самым показательным образом.
Он уже выступил инициатором путинского третьего срока, но, к счастью, не был услышан. Теперь он задумал испечь предвыборную платформу для путинского возвращения в Кремль, но по ходу дела то ли понял, что Путину туда не очень хочется, то ли получил сигнал о том, что Путин вообще против любой идеологии, потому что идеологии только раскалывают общество. Путин же стремится к его максимальной консолидации, желательно путем глубокой умственной деградации.
Именно поэтому попытка, скажем, Алексея Чадаева максимально туманно, многословно и квазинаучно сформулировать «Его идеологию» осталась без всякого верховного внимания и была воспринята, кажется, даже с раздражением.
Путина в качестве идеологии не слишком устраивала даже предельно пустопорожняя (но грозная) доктрина Суркова насчёт суверенной демократии, — недаром сразу после её обнародования он с раздражением заметил, что это всё-таки Сурков работает у Путина, а не Путин у Суркова.
Любые попытки подверстать под путинское правление платформу, программу, идею и тому подобное вызывают у власти раздражение — и не только потому, что идеология означает попытку думать, а попытка эта нежелательна сама по себе. Дело в том, что Путин должен быть президентом не по причине своей консервативности, либо либеральности, либо суверенной демократичности, а потому, что он Путин. Ни в каких идейных подпорках он для этого не нуждается, ибо попытка доказать его правоту вполне может обернуться своей противоположностью. А идеальная для него ситуация — это когда никто ничего не доказывает. Когда страна по-тихому сливается, распродавая недра.
Для России в её нынешнем — нулевом, или путинском, — состоянии любая идеология, включая самую провластную и расконсервативную, есть уже непозволительная, непростительная роскошь. Получив этот сигнал, Никита Сергеевич срочно переориентировал свой манифест с предвыборной платформы зрелого путинизма на личный крик обеспокоенности незаурядного художника. Правду сказать, на крик художника это в самом деле похоже гораздо больше.
Почему? Подробно разбирать это сочинение не станем, но кое на что укажем.
Нельзя на одной странице писать «Государство — это культура в форме служения Отечеству», а на соседней «Армия — это культура в форме службы Отечеству». Проще было написать «Армия — это культура в форме», и все были бы довольны.
Нельзя обосновывать консерватизм цитатами из Бердяева и (на следующей странице) Ильина. Полемика Бердяева с Ильиным по поводу «Противления злу силою» слишком хорошо известна, консерватизм Бердяева отличается от воззрений Ильина больше, чем воззрения Ильина от доктрины Ленина, и тут следует выбрать, на кого опираться. Разве может Александр Дугин, истинный вдохновитель манифеста, этого не понимать?
Нельзя на одной странице утверждать, что мы строим постиндустриальное информационное общество, а на соседней кричать о мистической сущности государства. Либо посткапитализм, то есть сугубая рациональность и прозрачность, либо мистика, то есть принципиальная непрозрачность и безответственность.
Нельзя на одной странице провозглашать упомянутую постиндустриальность, а на соседней заявлять: «Мы не нация торгашей, мы нация героев». Герои в постиндустриальном обществе, которое отличается от индустриального прежде всего тем, что вместо производства товаров в нём возобладало производство услуг, — это посильнее «Фауста» Гёте. В чём проявляется их героизм — в услугах? Тогда да, запросто: Никита Михалков подал пример, но, как показал этот пример, такие услуги плохо покупаются.
Наконец, нельзя утверждать, что американизация нам не нужна, потому что мы не Гондурас. Гондурас у нас всех беспокоит, больно название завлекательное, но нельзя же не помнить, что как раз в деле борьбы с американизацией он был впереди всей Америки: с 1956-г года, после общенациональной забастовки, Штаты вынуждены были отступиться от маленькой центральноамериканской страны, и к власти там пришла просвещённо-консервативная хунта, вследствие чего Гондурас и колбасит уже скоро шестидесяти лет, и релакса не предвидится.
Я уж не говорю про митрополита Дроздова, который был не автором, а редактором манифеста 1861-го года, и не сторонником, а противником освобождения крестьян; про Андрея Боголюбского, при котором Владимирская Русь, может, и процветала, да только начал он там с разгона народного веча. Так что традиции просвещённого консерватизма в этом смысле вполне однозначны. Впрочем, автор манифеста, кто бы он ни был, призывает опираться ещё и на традиции русского дореволюционного патриотизма, то есть, видимо, на разгон первой и второй Государственной Думы.
Всё это, повторяю, не представляет большого интереса — манифест написан растерянным человеком, вынужденным переориентироваться по ходу дела. Гораздо интересней, почему Михалкову не захотелось промолчать — ведь положение его после «Предстояния» не особо прочно, картина провалилась безоговорочно и так громко, что был перенесён выпуск её второй части. Тут бы помолчать, поработать, самоуглубиться — вон Союз кинематографистов раскололся и медленно выходит из-под Михалкова, чего уж больше, — но есть неумолимая сила истории, заставляющая одних, и тоже далеко не ангелов, быть борцами и символами благородства, а других, вовсе не дьяволов, олицетворениями холуйства.
Михалков — человек эстетический, к этим запросам чуток, драматургию угадывает. Его утвердили на роль. И он играет.
Слабость моей позиции в том, что я не понимаю — действительно не понимаю, — кем и как установлен этот закон, назначающий одних на хорошие, а других на плохие роли. Я вижу только, что главной трагедией России является именно несоответствие актёра и роли (отсюда огромная популярность Гамлета в наших палестинах).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи из журнала «Сеанс»"
Книги похожие на "Статьи из журнала «Сеанс»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Сеанс»"
Отзывы читателей о книге "Статьи из журнала «Сеанс»", комментарии и мнения людей о произведении.