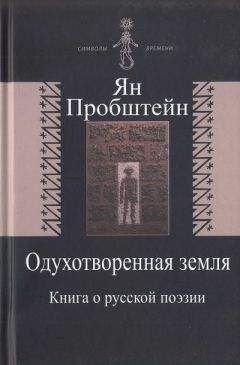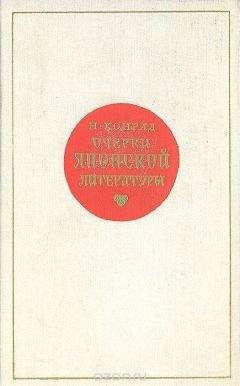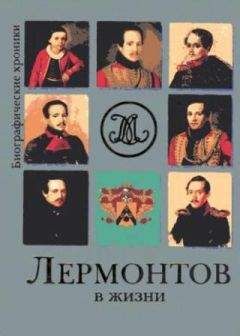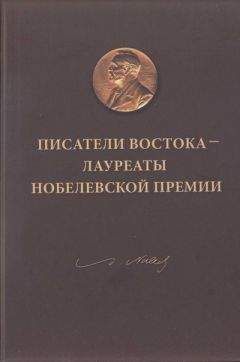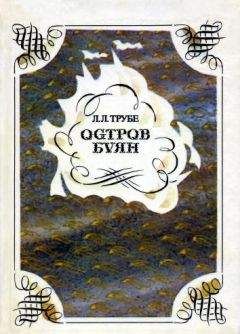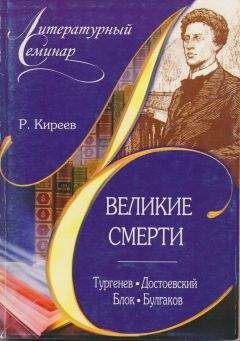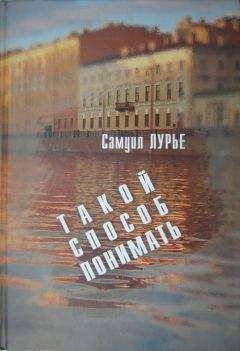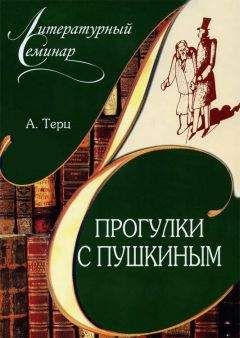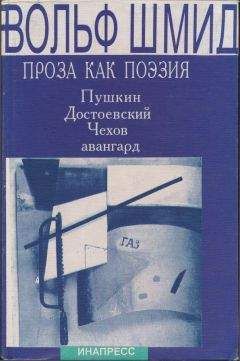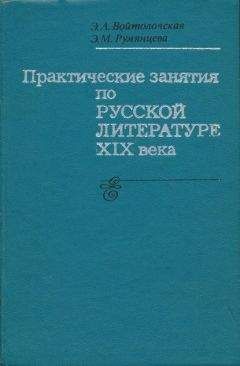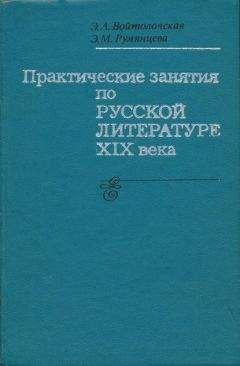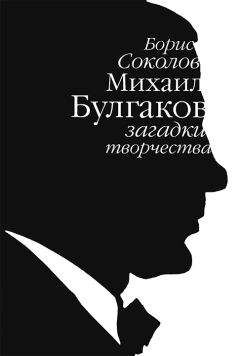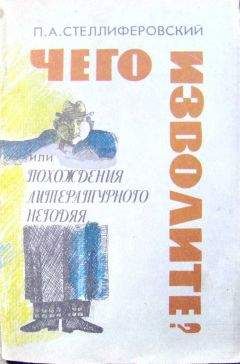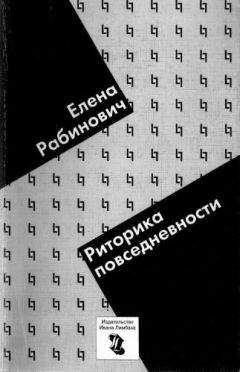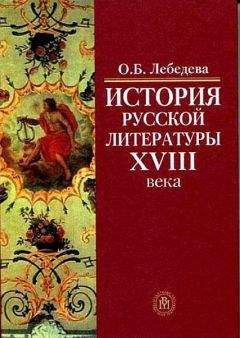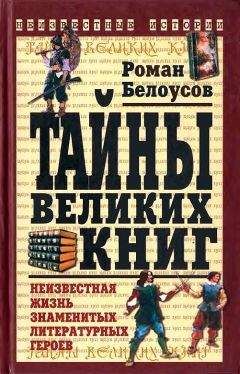Юрий Лотман - В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь"
Описание и краткое содержание "В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь" читать бесплатно онлайн.
Книга, предназначенная учителю-словеснику, познакомит с методами анализа литературного текста и покажет образцы применения этих методов к изучению произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Литературоведческий анализ дается на материале как включенных в школьную программу произведений, так и непрограммных.
Работа будет способствовать повышению филологической культуры читателей.
Сальери усвоил средневековое жреческое отношение к искусству. Это не только долг и служение, связанное с самоотречением, но и своеобразная благодать, которая нисходит на достойных. Как благодать выше жреца, так искусство выше художника. И эти слова не шокировали бы романтика, писавшего: „Слава искусству, но не художнику: он — слабое его орудие“[142].
Вот с этого момента и начинается роковое движение Сальери к преступлению. Пушкин берет самую благородную из абстрактных идей, самую по существу своему гуманистическую — идею искусства — и показывает, что, поставленная выше человека, превращенная в самоцельную отвлеченность, она может сделаться орудием человекоубийства. Поставя человеческое искусство выше человека, Сальери уже легко может сделать следующий шаг, убедив себя в том, что человек и его жизнь могут быть принесены в жертву этому фетишу.
Мысль, оторванная от своего человеческого содержания, превращается в цепь софизмов. Говоря об образе Анджело в „Мере за меру“ Шекспира, Пушкин писал: „Он оправдывает свою жестокость глубокомысленными суждениями государственного человека; он обольщает невинность сильными увлекательными софизмами“ (XII, 160). Так мысль застывает, облекается в броню мнимых истин, каменеет, т. е. делается мертвой. Камень восстает на человека, абстракция покушается на жизнь.
Первый шаг к убийству — утверждение, что убийца — лишь исполнитель чьей-то высшей воли и личной ответственности не несет: „Я избран“, „не могу противиться я доле, / Судьбе моей“, Далее делается самый решительный шаг: слово „убить“ табуируется, оно заменяется эвфемизмом „остановить“:
я избран, чтоб его
Остановить.
Самое трудное в преступном деянии — это научиться благопристойному его наименованию, овладеть лексиконом убийц. Даже говоря с самим собой, Сальери не хочет именовать вещи прямо: речь идет лишь о невинном действии — надо „остановить“. При этом еще один важный ход софизма: агрессивной стороной изображается Моцарт, „жрецы, служители музыки“ — лишь обороняющиеся жертвы. Это также существенно в софистике убийства: жертва изображается как сильный и опасный атакующий враг, а убийца — как обороняющаяся жертва. И наконец решающее:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? (VII, 128).
Право Моцарта (человека вообще) на жизнь оказывается определенным „пользой“, которую он приносит прогрессу искусства. А судьей в этом вопросе призваны быть „жрецы, служители музыки“. И если они решат, что для идеи искусства жизнь Моцарта бесполезна, то за ними право вынести ему смертный приговор.
Итак, абстрактная догма, даже благородная в своих исходных посылках, но поставленная выше живой и трепетной человеческой жизни, рассматривающая эту жизнь лишь как средство для своих высших целей, застывает, каменеет, обретает черты нечеловеческого „кумира“ и превращается в орудие убийства.
Пир Моцарта в „Золотом льве“, его последний пир, совершается не в обществе друга-музыканта, как думает Моцарт, а каменного гостя. Непосредственно на сюжетном уровне за столом сидят жизнелюбивый и ребячливый человек, именно человек, а не музыкант (эпизоды со слепым скрипачом, упоминание об игре на полу с ребенком рисуют принципиально не жреческий, а человеческий образ), и тот, кто — тонкий ценитель и знаток музыки — сам о себе говорит: „Мало жизнь люблю“, не человек, а принцип.
Но тень рокового пира мелькает уже в первом разговоре Моцарта с Сальери:
Представь себе… кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой (с Доной Анной? — Ю. Л.), или с другом —
хоть с тобой (т. е. с Сальери. — Ю. Л.),
Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое… (VII, 126–127).
Предсказано появление Командора. Но острота ситуации состоит в том, что друг и есть Командор. Моцарт, считая, что гений и злодейство несовместны, думает, что пирует с гением, т. е. с человеком. На самом же деле за столом с ним сидит камень, „виденье гробовое“.
Второе упоминание — слова Моцарта, которому кажется, что черный человек, заказавший Реквием, „с нами сам-третий / Сидит“.
Третье упоминание — имя Бомарше, сорвавшееся с уст Сальери. Клевета или действительность, но слава отравителя преследовала Бомарше при жизни и пятнала его имя за гробом. Так символ пира и мотив борьбы человека и камня подводят к решительному моменту — убийству.
Сталкиваются два мира: нормальный, человеческий мир Моцарта, утверждающий связь искусства с человечностью, игрой, беспечностью, простой жизнью и творчеством, ищущим ненайденное, и перверсный мир Сальери, где убийство именуется долгом („тяжкий совершил я долг“), яд — „даром любви“, а отравленное вино — „чашей дружбы“, где жизнь человека — лишь средство, истина найдена и сформулирована и жрецы стоят на ее страже.
Фактическая победа достается второму миру, моральная — первому.
Извращенность — закон мира Сальери, и противоестественное сочетание: „Пировал я с гостем ненавистным“ — он использует как обыденное и нормальное. В „Каменном госте“ эта атмосфера распространяется на всех героев и заполняет все пространство драмы. Естественная, человеческая, домашняя ребячливость Моцарта, простодушная доброта его гениальности превращаются в Дон Гуане в злую страсть, которой для полноты ощущений необходимо присутствие смерти. Дон Гуан — тоже гений, но он уже не скажет, что гений и злодейство „две вещи несовместные“. Моцарт — воплощенная естественность. Он показывает, что быть гениальным — норма человеческого существования. Дон Гуан — гений, рвущийся нарушать нормы, разрушать любые пределы именно потому, что они пределы.
Но если сдвиг авторской точки зрения раскрывает нечто новое в „человеческом“ ряду (идет анализ личного начала в человеке: Моцарт раскрывал в человеческом гениальное, Дон Гуан в гениальном — страшное), то и мир „каменных“ догм и принципов предстает в новом свете: как защитник идей верности, домашнего очага, семейной морали Командор освещен иначе, чем гениальный завистник Сальери. Это приводит к тому, что в „Каменном госте“ оба антагониста каждый по-своему страшны и каждый по-своему привлекательны.
Образ Дон Гуана двоится: он хитрый соблазнитель, расчетливый циник, „развратник и мерзавец“, как характеризует его Дон Карлос. Но он же Дон Кихот любви, и каждое слово лжи чудесным образом становится в его устах словом искренности и правды. Он каждую минуту настолько верит в то, что говорит, что речи его делаются истинными. Он враг влюбленных в него женщин („Сколько бедных женщин / Вы погубили?“), но он же и величайший их друг. Даже обманывая, он говорит им то, что сами они втайне жаждут услышать, и для каждой из них любовь Дон Гуана — и соблазн, и гибель, и торжество, и счастье.
Дон Гуан „развратный, бессовестный, безбожный“ (VII, 141), как его именует монах. Но его безбожие связано не с болезненной жаждой кощунства, а с безграничной смелостью, запрещающей признавать существование сил, способных внушить ему страх. Он появляется со словами „я никого в Мадриде не боюсь“ и торжествует над страхом в свои последние мгновенья:
Дон Гуан.
О Боже! Дона Анна!
Статуя.
Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
Дон Гуан.
Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу (VII, 171).
Он отказывается выполнить приказ статуи „бросить“ Дону Анну и погибает с именем своей земной любви на устах. Хитрый соблазн преобразился в страсть, о которой в Библии сказано: „крепка яко смерть любы“, „вода многа не может угасити любве и реки не потопят ея“ (Песнь песней; 8.6–7). Безотчетная, безграничная смелость человека делает образ Дон Гуана обаятельным, разрушительность его страстей раскрывает страшную сторону человеческой личности.
Образ Командора тоже двоится, и это его отличает от Сальери. Он — Статуя, воплощенный принцип, „мертвый счастливец“, „мраморный супруг“ (VII, 163). Но он и человек. Эта двойственность задана в известном монологе Дон Гуана:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь став на цыпочки не мог бы руку
До своего он носу дотянуть (VII, 153).
Контраст между импозантностью статуарного знака и физической хилостью реального Дона Альвара давно уже сделался хрестоматийным примером. Но слова:
а был
Он горд и смел — и дух имел суровый…
восстанавливают соответствие между духовной сущностью покойного мужа Доны Анны и внешностью Статуи. И прижизненный Дон Альвар двоится. Он купил любовь Доны Анны („Мы были бедны, Дон Альвар богат“, „мать моя / Велела мне дать руку Дон Альвару“ — ситуация Татьяны). Но он любил Дону Анну („Когда бы знали вы, как Дон Альвар / Меня любил!“) и хранил бы ей верность и за гробом („Когда б он овдовел — он был бы верен / Супружеской любви“ — VII, 164).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь"
Книги похожие на "В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Лотман - В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь"
Отзывы читателей о книге "В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь", комментарии и мнения людей о произведении.