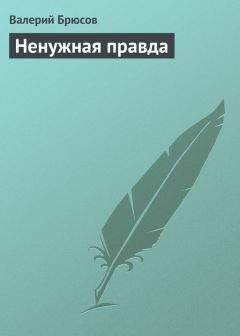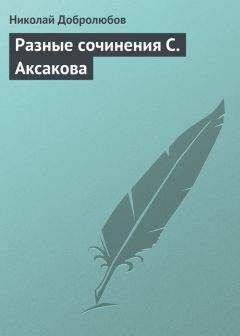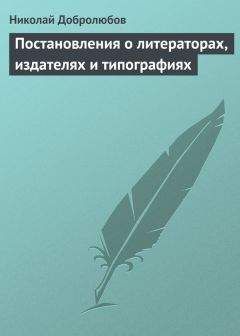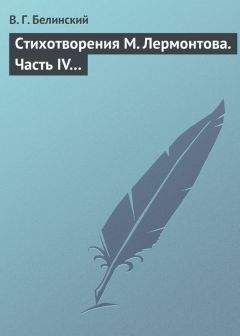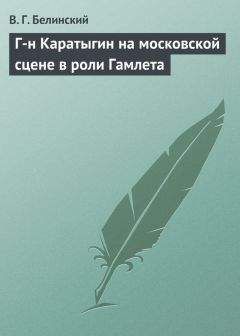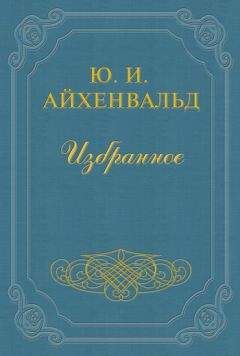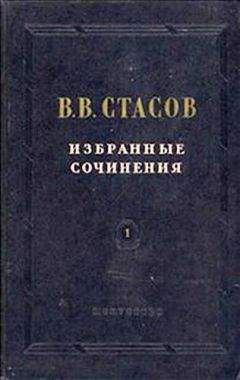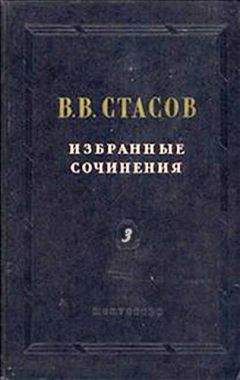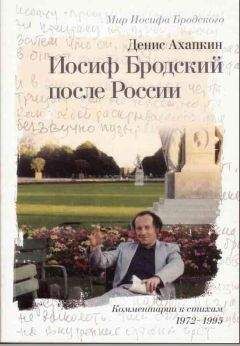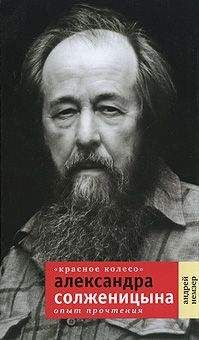Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского
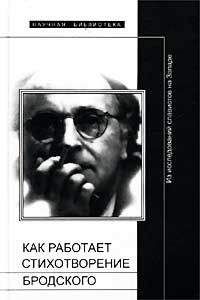
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Как работает стихотворение Бродского"
Описание и краткое содержание "Как работает стихотворение Бродского" читать бесплатно онлайн.
Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.
Моей дочери
Дайте мне еще одну жизнь, и я буду петь / в кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть / там. Или стоять, как мебель в углу, / если другая жизнь окажется чуть менее щедрой, чем первая. // Все же, поскольку отныне ни одному веку отныне не обойтись / без кофеина и джаза, я стерплю этот урон, / и сквозь свои щели и поры, покрытый лаком и пылью, / через двадцать лет я буду смотреть, как ты расцветаешь. // В общем, помни, что я буду рядом. И даже / что твоим отцом, может быть, был неодушевленный предмет, / в особенности если предметы старше тебя или больше. / Так что всегда имей их в виду — они обязательно будут тебя оценивать. // Все равно люби их — встретятся [они тебе] или не встретятся. / И еще — может быть, ты все же будешь помнить некий силуэт или контур, / когда я и это потеряю, вместе с остальным багажом. / Отсюда — эти чуть деревянные строки на нашем общем языке.
У этого стихотворения есть некий «фактический» каркас, который следует очертить, прежде чем будет сделан первый шаг к его пониманию или «интерпретации». Во-первых, оно адресовано Анне Марии Александре, дочери поэта и Марии Соззани, родившейся 9 июня 1993 года и названной в честь Анны Ахматовой и родителей Бродского (Марии Моисеевны и Александра Ивановича). Когда Бродский писал «Моей дочери», ей было около полутора лет, а ему оставалось чуть меньше года жизни (Бродский умер 28 января 1996 года от застарелой болезни сердца).
Во-вторых, с технической точки зрения стихотворение написано свободным героическим гекзаметром[359], который был хорошо знаком Бродскому и в русском, и в английском вариантах: большинство строк имеет шесть метрических ударений (за исключением первой, второй и десятой строки), анакруза (безударные слоги, предваряющие первое сильное место) в данном случае «блуждает» (заметим, что в русском гекзаметре анакрузы быть не должно), промежуток между метрическими ударениями занимает от одного до двух слогов (что характерно для русского языка), а клаузула (безударные слоги, следующие за последним сильным местом) состоит из одного слога (что опять-таки характерно для русского языка). Русский гекзаметр обычно не имеет рифм, однако они есть у англоязычного Бродского: вместо нерифмованных женских окончаний («героическая» модель, восходящая к Гнедичу) мы видим рифмованные четырехстишия, заключенные в симметричную схему aabb (исключение составляет двенадцатая строка). Рифмы у Бродского достаточно «вольные», но острые и в высшей степени изобретательные. Обратим внимание на то, как он использует enjambement (особенно показательны первые строки стихотворения): при наличии скользящего метрического ударения это, несомненно, требует «семантизации». Кроме того, интонационные паузы («цезуры») в этом стихотворении очень подвижны, что свойственно английской традиции, тогда как в русской цезура занимает постоянную позицию (т. е. является частью размера). Мы еще вернемся к этому противопоставлению английского и русского гекзаметра и к другим соображениям формального порядка.
В-третьих, язык стихотворения, его стилистический регистр столь же откровенно «прозаичен», «нелиричен» и, по- видимому, выходит за рамки высокой культуры (приобщенность к которой нередко служит отличительной чертой поэзии Бродского), так и тема мебели и неорганической «вещности». Отметим, что помимо склонности лирического героя видеть себя в будущем не просто покойником, но именно «неодушевленным предметом» в стихотворении есть еще одна фактическая странность: упоминание кафе «Рафаэлла». Кафе это действительно существует, оно расположено на 7-й авеню Манхэттена, совсем недалеко от бывшей квартиры Бродского в Гринвич-Виллидж: сын своего века, он тоже не мог обойтись без кофеина и джаза. Не забудем и об итальянском названии: немаловажный штрих, когда речь идет о поэте, так много писавшем о Венеции и Риме, об античности и о классических поэтах, мыслителях и государственных деятелях, которые зачастую становились его собеседниками. Именно это место становится отправной точкой его размышлений о собственной кончине и последующем вступлении в историю
Таковы факты, с которыми мы приступаем к стихотворению. Но они еще не имеют «значения». Бродский-поэт всегда восставал против «типичного» критического перехода от неодушевленного / дескриптивного (будь то «форма» гекзаметра или кресла) к одушевленному / осознанному (внутреннее просветление этих вещей непостижимым путем языка). Даже говоря о стихах других поэтов, например Фроста или Гарди (см. его сборник эссе «О скорби и разуме»), он стремился минимизировать биографический элемент (одновременно предоставляя своим студентам и читателям материалы, подтверждающие обоснованность его наблюдений), фокусируя внимание на внутренней работе поэтического языка. Поэтому «Моей дочери» не становится значимым, не превращается в стихотворение исключительно в силу того, что лирического героя ждет скорая смерть, тогда как его дочь лишь начинает жить, — а кафе «Рафаэлла» находится недалеко от его бывшего пристанища в Гринвич-Виллидж. Не способствует этому и наше знание, что его слова оформлены в гекзаметры, хотя с технической точки зрения это ближе к истине, чем всё остальное. Сами факты, тем более биографические, не «формируют» значения (по мнению Бродского, происхождение ничего не объясняет); они образуют пространство, где оно может родиться. Факты обретают значение благодаря языку. Отсюда фирменные афоризмы Бродского, привычные для тех, кто знаком с его сборником «Меньше единицы»: «короче говоря, поэта следует рассматривать только через призму его стихов — и никакую другую»; «на самом деле язык использует человека, а не наоборот»; «последний бастион реализма — биография — основывается на захватывающей предпосылке, что искусство можно объяснить жизнью»; критики ставят «литературу в слишком подчиненное по отношению к истории положение», в то время как поэты делают прямо противоположное[360].
Одним словом, взгляд Бродского на поэта был вполне романтический, хотя смягченный изрядной долей усвоенного им демократического духа, иронии и юмора (еще один парадокс). Как и Цветаева, он презирал критиков, видя в них несостоявшихся поэтов, чьи бесполезные дефиниции и термины не могут охватить чужое превосходство. Поэт — существо особенное, но это не имеет отношения к уникальному таланту, который можно было бы считать его собственной заслугой, чем-то приносящим удовольствие, полезным в жизни и проживаемым как «жизнь». Нет, поэт — это то место, где язык — играющий мифологическую роль чего-то более древнего, более великого, нежели Государство или История (отметим, какие неожиданные сальто выписывает здесь проблема происхождения), — оживляет значение. Согласно напористой логике Бродского, настоящее стихотворение — в буквальном смысле неодушевленная форма жизни. Таким же причудливым образом утверждается, что поэтический язык вечен отнюдь не благодаря папирусу или компьютерным дискетам. Это перекресток, где конечное и одушевленное, т. е. человеческое существо, встречается с бесконечным и неодушевленным, т. е. с материей как таковой. Нельзя искать значение в жизни, даже в жизни поэта; человеческая история слишком антропоморфна и страдает солипсизмом. Как однажды сказал Бродский выпускному классу Дартмутского колледжа, нужно усвоить «урок своей крайней незначительности» перед лицом вселенной[361]. Итак, «значение» — если оно вообще не иллюзорно — это то, что испытывает поэтическая душа, наблюдая, как ее жизнь превращается в языковую материю (управлять этим процессом он не может, но существует только ради него). Здесь речь не о смутно-антропоморфном бессмертии языка (птицы Йейтса будят дремлющих императоров и т. д.), а о его материальном характере; это — нечто переросшее человеческое страдание, но способное — даже предназначенное — служить его сосудом. Согласно траектории, отчетливо прочерченной всей зрелой поэзией Бродского, это не христианское слово-ставшее-плотью, а — в буквальном смысле — плоть-ставшая-деревом, или, пользуясь другой известной метафорой, поэт, ставший частью собственной речи[362].
Но откуда взялись — конечно, не поэтические идиомы Бродского, а его представления о поэтическом языке? И если язык — это божественный глагол, то каков его символ веры? Поиск ответов на эти вопросы непосредственно возвращает нас к загадочному смыслу стихотворения «Моей дочери». Для Бродского просодическое многообразие стихотворения является настоящим хранилищем памяти: черпая из него, он апеллирует к традиции в целом. Это особенно справедливо в отношении его творчества как русского поэта, который, в отличие от своих английских собратьев, острее чувствует взаимосвязь между историей просодической формы и ее семантическим и тематическим «ореолом». Для Бродского, вслед за Мандельштамом, «память» предшествующих форм (это должно быть сказано именно так, а не иначе), Муза и Мнемозина — синонимы или же ипостаси одного и того же. С точки зрения поэта, это и есть «история», и когда Бродский пишет, что поэтический язык представляет собой «реорганизованное время», которое, несмотря на равнодушие к человеческой трагедии, обладает признаками «индивидуальности» или (мандельштамовской) душой/ психеей, — он думает именно о ней. Не случайно накануне высылки из России он выбирает для стихотворного прощания с сыном Андреем («Одиссей Телемаху», 1972) белый стих (нерифмованный ямбический пентаметр). Русская генеалогия этой поэтической формы включает в себя произведения Жуковского, Пушкина, Огарева, Блока, Гумилева, Ходасевича, Кнута, Ахматовой и самого Бродского (напр., «Остановка в пустыне», 1966)[363]. Ее тематическое поле было окончательно определено, когда Пушкин, отталкиваясь от стихотворения Жуковского «Тленность» (1816) — довольно бледного перевода из Гебеля, написал «…Вновь я посетил…» (1835). Это тематическое «чувство» формы связывает ее с размышлениями о смерти и смене поколений, с переживаниями лирического героя, возвратившегося к местам своего прошлого. Заданная Пушкиным семантическая и тематическая «тональность» основана на поразительном смешении элементов лирики и прозы (отсутствие рифм, простота, безыскусность языка и т. д.). Что же касается более глубокого «дыхания» строки (идея, в равной степени важная как для Мандельштама, так и для Бродского), то она имеет не только явные «шекспировские» коннотации (одна из моделей пушкинского белого стиха). Например, в «Остановке в пустыне» мотив возвращения обретает классическое или «античное» звучание — на месте снесенной Греческой церкви (потенциальная отсылка к эллинизму и православию) вырастает современный концертный зал: так «младое племя», которое приветствовал Пушкин, иронически преобразуется в убогий советизм — «концертный зал». То же самое можно сказать и о стилизации классической биографии в стихотворении «Одиссей Телемаку», которая призвана показать (иронически обыграть) современность античности и оттенить утонченность поэта, оказавшегося жителем варварского государства. Рассказ об измене и изгнании выстраивается с помощью ряда прямых аллюзий — греки, Цирцея, Посейдон, Паламед, Эдип и т. д.: сам прием очевидно отсылает к традициям высокого модернизма, к неоклассическим экспозициям у таких поэтов, как Мандельштам, Ахматова или Цветаева. Но здесь обращение к местам прошлого становится не возвращением домой, а передышкой перед изгнанием.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Как работает стихотворение Бродского"
Книги похожие на "Как работает стихотворение Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского"
Отзывы читателей о книге "Как работает стихотворение Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.