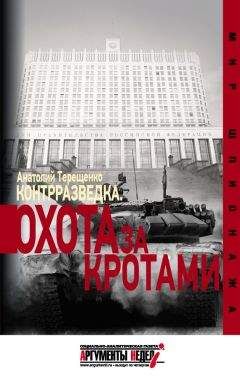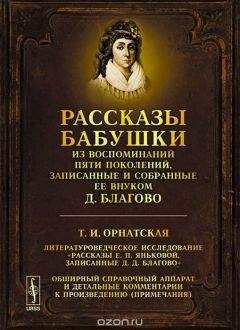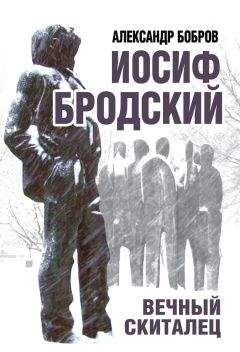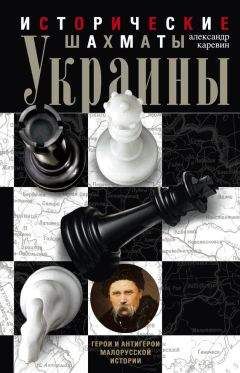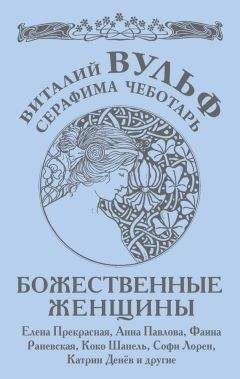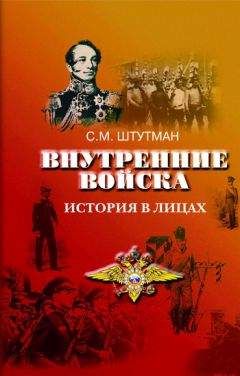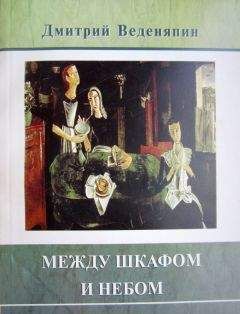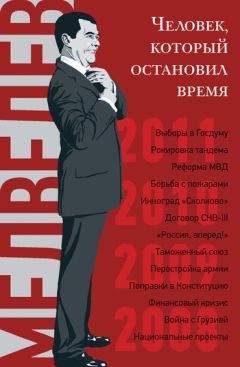Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Описание и краткое содержание "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать бесплатно онлайн.
Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени... Упомянутые в книге имена, одни весьма громкие, другие незаслуженно забытые, представлены в характерных жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.
Поэтому его именем манипулировали и, кажется, будут продолжать это делать, даже если пушкиноведение самозакроется, исчерпав себя, а бывшие кумиротворцы займутся, наконец, историей литературы. Конечно, ещё появятся и закатятся новые «солнца русской поэзии», но новыми Пушкиными им не стать, хотя бы по той простой причине, что «Евгений Онегин» уже написан. Наследие Пушкина всё ещё очень богато, но приходится признать, что за двести лет многое уже отработало своё и представляет интерес лишь как материал для стилизации или пародии. Четырёхстопный ямб, например, надоел уже самому Пушкину, а глагольные и однокоренные рифмы стали сейчас отличительным признаком неумелых стихослагателей.
Не так уж блестяще сложилась судьба языковой реформы Карамзина и Жуковского, которая стала называться в дальнейшем «пушкинской реформой русского литературного языка». Да, ещё лицеистами Пушкин и Дельвиг поклялись «не писать семо и овамо», и эту клятву, в общем-то, соблюдали. Принято считать, что то было обязательством в пользу художественной точности, но слова имеют и другой смысл – поэты отказались от архаизмов, от церковно-славянского языка, стали широко вводить галлицизмы и другие иноязычные формы. Язык Пушкина – почти всегда светский, таков же он и в стихах его последователей. От ломоносовской «бездны звезд», от державинской оды «Бог» русло поэзии пролегло в другую сторону. Десятилетия официального безбожия (и культа Пушкина среди многих других культов) ещё более отдалили современный язык от его истоков. Церковнославянский стал представляться языком мёртвым, чем-то вроде школьного скелета в кабинете анатомии.
Между тем – это язык литургии, молитвы и откровения, язык, в котором наше русское слово становится отзвуком Божественного Логоса. Так что если это и костяк, то костяк живой, наполненный нервами и мозгом, дающий языку мышечную силу и стойкость. Отделённый от корневой опоры, современный русский язык потерял сопротивляемость перед хлынувшим в него потоком англицизмов или, лучше сказать, американизмов, связанных с компьютерной техникой, индустрией развлечений и финансовым миром. Он заболел иммунодефицитом.
Значит, не такими уж ретроградами, не такими «губителями», как насмешливо говорил Пушкин, были и адмирал Шишков, и другие любители русского слова, входившие в «Беседу», – и Державин, чьё наследие оказалось в наши дни неожиданно свежим и плодотворным, и Крылов, и молодой Грибоедов... Да и сам Пушкин, в нарушение своего юношеского обета, когда нужно, пользовался архаизмами, как, например, в «Пророке», где ему удалось извлечь высочайшие звуки своей поэзии.
Вообще, чистота тона, естественность и музыкальность стиха остаются непревзойдёнными качествами пушкинского наследия. Здесь состязаться с ним невозможно, но эта непревзойдённость и увлекает поэтов. Константин Бальмонт достигал исключительной напевности, но пушкинской чистоты звука у него не получалось, а в некоторых стихотворениях Фёдора Сологуба соотношение напевности и чистоты бывало обратным. Лишь Мандельштам достигал такого же уровня гармонической полноты, на котором творил Пушкин.
Но если заимствовать у музыки её гармонические приёмы, то можно умудриться и сыграть фугу в четыре руки с самим Александром Сергеевичем. Покидая экскурсионный автобус, завезший меня столь далеко, я выбрал одну из моих излюбленных пушкинских тем и разработал к ней вариации. Получилось двухголосое стихотворение.
ЕГО ЖЕ СЛОВАМИ
Пускай не схожи сланец и гранит,
но с холодом сошлись пути тепла.
На склонах Грузии лежит
адмиралтейская игла,
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
и невская накатывает аква
на глинистые камни под стеною,
прозрачная. И мутно-далеко
шумит Арагва.
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко,
и нету ни изгнанья, ни печали,
а только выси, глуби, дали
и тонкая издалека игла,
которая прикалывает наспех
чужое сердце на чужих пространствах,
как мотылька, на грань его стола.
Но боль моя, печаль моя светла...
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
и время милосердное с любовью
пространству стягивает боль,
цветут объёмы перед ним,
цветут одним —
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, только воздух гложет
глаза до слёз на сквозняке времён,
и жизнь мою прохватывает он
до радости, но горя не тревожит,
И сердце вновь горит и в красной дрожи
сгорает, хоть и любит – оттого,
что, не спалив, не воскресить его,
Что не любить оно тебя, тебя – не может.
ГОЛУБЫЕ ЗАЙЦЫ
В какое же время мне теперь вернуться из того сумасшедшего автобуса? Если оно – Гераклитова река, то в него уже и не вступить, а если это советское болото брежневской формации, то сколько угодно: чавкай по нему в резиновых сапогах, чтобы особенно не замараться. Сам в эфир не стремись, оберегай имя и лицо для каких-нибудь будущих ослепительных и голограммных обложек, а выступающие твои, передовики производства, знают и без твоей подсказки, что им позволено болботать. И сами болбочут.
Богемность третьей программы отлично переплелась с конторской рутиной, а из всех советских богов среди наших «работников культуры» и технарей пуще всего почитался Бахус. Поэтому, когда под «нояпьские» праздники Главным редактором Главной редакции учебных программ назначили (согласно тому же историографу) Василия Тёмного, то бишь Кулаковского, решено было устроить алкогольное братанье всех её отделений. Увильнуть не удалось, а что такое учрежденческие попойки, многим ещё мучительно памятно: водка из чайных чашек, закусываемая пирожным, а потом в лучшем случае какой-нибудь Айгешат или Кокур с икотой и головной болью. Но ещё до первого тоста я успел спросить:
– Василий Яковлевич, а, случайно, не вы были редактором многотиражки «Технолог» – где-то примерно во второй половине пятидесятых?
– Да, я. Главным редактором.
– Так, значит, это вы печатали Лернера и громили нашу газету «Культура»?
И тут я увидел, что дважды-главный заметно струхнул.
– Что вы, что вы, я назначен был позже, я застал только слухи об этом.
Как бы то ни было, но доподлинно (вплоть до газетных вырезок) я узнал о нём, что и позже он напускал, и немало, идеологической мути на тех, кто последовал дальше за нами. После разгона «Культуры» та самая комната с белокафельной печью, где мы вольничали, глаголя об искусствах, пустовала недолго. Там стал собираться дискуссионный клуб, и обсуждались в нём скорее вопросы общественного устройства и вообще: куда это всё катится. В комнате, как оказалось, на антресолях была кладовая, которую мало кто и замечал. Но вот Кулаковский заметил и тайно стал залезать туда на время дискуссий. Однажды он был случайно заперт, просидел там всю ночь, а утром с поворотом ключа его освободили со всеми подслушивающими причиндалами.
Тогда, уже не скрываясь, он напечатал в «Технологе» фельетон под названием «Рыцари белого камина», где цитировал многие крамольные высказывания наших правдолюбцев. Администрация, понятное дело, приняла свои меры: репрессии на местном уровне. Наблюдая со стороны, Кулаковский идеологически их разгадал: молодые искатели истины и в самом деле отправились в поход за марксистским Граалем. Это, по логике того времени, привело их к изданию подпольного журнала «Колокол», а затем в исправительно-трудовой лагерь в Мордовии.
С «колокольчиками», как она их любовно называла, меня познакомила Наталья Горбаневская уже после их отсидки, и я надолго подружился с Вениамином Иофе, а с Борисом Зеликсоном мы были и так знакомы с незапамятных времён. Это к его делу следователь в Большом доме подшил толстенную папку всё ещё не закрытого «Дела об издании и распространении газеты “Культура”», тем самым закрыв его.
Впрочем, от автора «Рыцарей белого камина» ни больших, ни малых неудовольствий для меня не последовало. Правил он редакцией вяло, придирки были случайны, а для защиты своих находок и задумок наши либералы обводили его с помощью так называемого «голубого зайца». В чём этот приём состоит? Он очень прост: в сценарий закладывается какая-нибудь заведомая нелепость – тот самый «голубой заяц». Проверяльщик, натурально, сразу на него глаз и кладёт:
а при чем тут заяц? Ах, извините, мы его вычёркиваем. Начальство успокаивается, и остальной материал проходит. Добавлю, что такой заяц существует и у англичан, только он называется в переводе на русский «красной селёдкой»! Это может вызвать философский вздох: не всё ли в мире устроено одинаково? Нет, не всё. Краски. Краски – разные.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Книги похожие на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Отзывы читателей о книге "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2", комментарии и мнения людей о произведении.