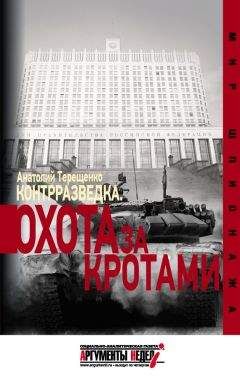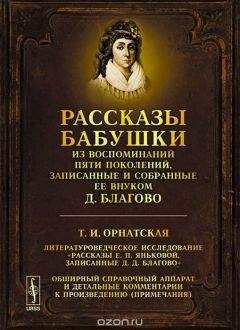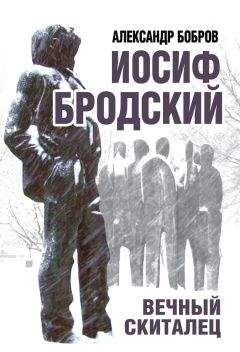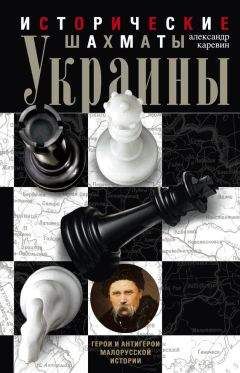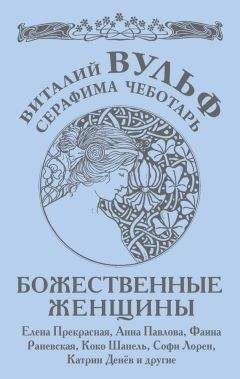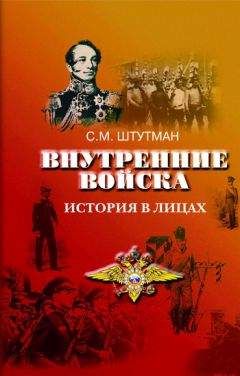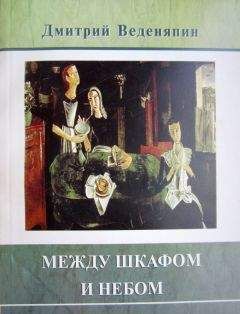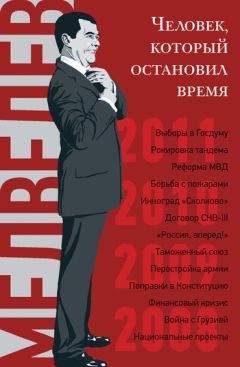Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Описание и краткое содержание "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать бесплатно онлайн.
Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени... Упомянутые в книге имена, одни весьма громкие, другие незаслуженно забытые, представлены в характерных жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.
К первой строфе полностью применима характеристика, данная Пушкину философом Георгием Федотовым – «певец империи и свободы». В статье под таким названием он проследил, как изменяются у Пушкина эти две доминанты, и как, тем не менее, тот сохраняет им верность на протяжении своего творческого пути. Всё правильно, точно... Только во второй строфе он, увы, не просто изменяет им, но и доводит федотовское определение до пародии: певец империи, свободы и... женских ножек.
Здесь я катапультируюсь из экскурсионного автобуса и оказываюсь в собственном будущем, на праздновании двухсотлетнего юбилея Пушкина. Таврический дворец, зал думских заседаний. Выступает мокрогубый губернатор Яковлев. Сойдя с отрогов Олимпа, приобщаясь к относительным высотам Парнаса, он заодно путает Государственную Думу с Учредительным собранием, открывает чтения и исчезает в складках занавеса. Объявлен Кушнер. Вот бы ему прочитать, как на нашем общем первоначальном выступлении в Политехническом почти полстолетья назад:
Поэтов любыми путями
Сживали с недоброй земли...
Я бы, наверное, спятил от такого перепада времён и вообразил бы себя на худой случай Рессером, а то и Ламброзо, но нет. Конечно же, Кушнер читает что-то другое, новое, а затем объявляют меня. По условиям, надо прочитать лишь одно стихотворение: либо Пушкина, либо своё. Я нахожу выход: одно, но в двух частях, причём, одна часть его, другая моя, а публика, мол, разберётся сама, что чьё. И читаю вот это самое, вышеприведённое, про ножку, а затем как его хореическое продолжение:
Этот город, ныне старый,
над не новою Невой,
стал какой-то лишней тарой,
слишком пышной для него.
Крест и крепость без победы
и дворец, где нет царя,
всадник злой, Евгений бедный,
броневик – всё было зря...
Ну, и дальше до конца этой части, как в моих «Петербургских небожителях», к тому времени уже напечатанных «Октябрём» с посвящением Анатолию Генриховичу Найману.
Следом была Светлана Кекова из Саратова, и я насторожился, обрадовался её интравертной созерцательности, уже подумал, что наша, но нет, оказалось – совсем бахытовская. Сам же Кенжей находился в Канаде, обнимая другую прекрасную даму, как я ранее точно-таки угадал: Эмиграцию. Догадку мою держит он с тех пор как обиду.
Но зато вышел экстравертный до вывернутости Дмитрий А. Пригов, сделал сначала научно-стебной реверанс герою празднества, да и зычно взревел по низам первую строфу из «Онегина» на мотив буддийского «О-О-О... М-М-М-М» и выше, выше, с переливом к стамбульскому муэдзину, закончив её (не о себе ли самом?) пророческим чёртом. Зал был «в отпаде», а вот журналистов он не потряс. Из отчёта в отчёт заскакало: «Пригов кричал кикиморой». А – голос? А – цирк!
И главное, – яркая маска, запоминающаяся, как пушкинские бакенбарды. Вот у Кековой никакой маски нет. И у меня на физиономии порой бывает написано больше, чем хотелось бы миру явить. А Горбовский выходит на середину красно-бархатного зала в знакомом, до мелочей наработанном образе: человек из народа, на мизерной пенсии, но неизменно под мухой. Вот, мол, до чего довели нас, простых работяг, все эти демократики, олигархи, братки с беспределом. В руке – авоська для сдачи стеклотары, только в ней не бутылки, а бумажки: сколько ж их он исписал и накомкал! Вынимает одну – кукиш зажравшейся, обнаглевшей Америке. Из второй преподносится примерно то же для Англии. Из третьей выходит, что крест остаётся нести только России. Сочувственные аплодисменты зала...
Для второго дня торжеств Арьев предложил мне на выбор либо выступить со стихами в Капелле (вкупе с остальными собратьями по перу), либо с докладом на конференции в Малом зале Филармонии. И то, и другое звучало как музыка. Я выбрал Филармонию и доклад, потому что под него университет выдал прогонные, и надо было их оправдать.
Малый зал был набит, как когда-то на концертах Рихтера, но на этот раз звездой был Ефим Эткинд, и он действительно блистал профессорским красноречием, воздвигая словами ещё один памятник не мировому и не национальному, а европейскому Пушкину. Ну и, конечно, из всех европейских поэтов тот выходил у него наиболее европейским. Ефим Григорьевич и сам выглядел великолепно, как будто трёх эмигрантских десятилетий и не бывало, как будто не суждено было ему всего-то через два месяца внезапно окончить свои дни. Он улыбался, окончив доклад, ему долго рукоплескали, а потом зал вдруг наполовину опустел, сразу же дав понять, кто здесь кто.
Что ж, мне хватило и оставшейся половины, чтобы начать свой доклад, который я назвал так же, как эту главу. «Звучит весьма гегельянски», – заметил с усмешкой Александр Долинин, сменивший председательствующего Арьева. Но ведь в этом и суть. Именно такого Пушкина показал нам Абрам Терц, вытащив его, как из не знаю чего, – из своих драных мордовских «Прогулок»... Что за буря возмущения поднялась тогда как в советской, так и в эмигрантской печати – причём единодушная! Самым необычным в эссе был его тон, ироничный, непочтительный, совсем непохожий на тот молитвенный с экстатическими придыханиями, которым стало привычным говорить о классике. С первой же страницы ревнители позолоченного Пушкина оказывались в шоке. А когда доходили до криминальной фразы «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвёл переполох», то книга, вероятно, захлопывалась, далее не читалась, и они принимались писать негодующие рецензии.
В начале 1980 года я посетил в Нью-Йорке Романа Гуля, тогдашнего редактора «Нового журнала», известного своими мемуарами «Я унёс Россию», своим бранчливым нравом и авторством статьи «Прогулки хама с Пушкиным». Он принял меня в темноватой, заваленной бумагами и книгами квартире где-то на верхнем Манхэттене. Ему было уже хорошо за 80, облезлый череп покрывали пигментные пятна, но карие глаза глядели живо. Видя во мне возможного сотрудника, если не преемника (а я тогда сам мечтал о журнальной работе), Гуль расспрашивал о моих литературных предпочтениях. Спросил и о Терце-Синявском. Я ответил, что тон для эссе Синявский, действительно, взял рискованный, но надо учесть, что он писал эту книгу на лагерных нарах, находясь там как политзаключённый, как жертва пропагандно-карательной системы. Та же система использовала классика в своих целях, так что он стал её невольным пособником. Им оправдывали цареубийство, он приветствовал чуть ли не комсомол как «племя младое, незнакомое»... Синявский подверг Пушкина зэковской «проверке на вшивость». Ну назовите это литературной провокацией, попыткой переоценки. Да, такое обращение с классиком кажется бесцеремонным, но время от времени это нужно делать, и Терц был вправе так писать. Был вправе. А самое главное – это то, что в конце книги (если, конечно, дочитать её до конца) Пушкин выходит из проверки слегка потрёпанным, но живым и весёлым.
Гуль подумал минуту и сказал:
– Нет, всё-таки это – прогулки хама с Пушкиным.
Моё сотрудничество с журналом, разумеется, так и не состоялось.
Пушкиноведение, особенно расцветшее к 100-летней годовщине со дня смерти Пушкина, создало культовое поклонение ему. В 1937-м вся страна обсуждала перипетии пушкинской трагической мелодрамы, как обсуждают сегодня мыльные оперы, а под шумок шли кровавые чистки. Бедный Александр Сергеевич, должно быть, переворачивался в гробу, а к нему ещё приделывали приводные ремни для вращения государственных колёс. Полюбуйтесь-ка типичным пассажем из работы одного лауреата-сталиниста – пушкиниста, это любопытно даже стилистически: «Пушкин – союзник советских людей, борющихся за мир, за свободу и за счастье человечества, занятых героическим созидательным трудом во славу социалистической отчизны. Жизнеутверждающая поэзия Пушкина звучит для нас сегодня как призыв к завоеванию новых побед в борьбе за процветание и могущество нашей великой Родины». А писалось это вслед за приснопамятным докладом Жданова...
«Не сотвори себе кумира» – сказано в Библии, во Второзаконии. Но именно этим и занималось пушкиноведение. Сама эпоха, в которой он жил, стала называться «пушкинской», поэты-современники существовали уже не сами по себе, но наподобие кордебалета образовывали «пушкинскую плеяду». Правда, не всегда так было. Писарев критиковал Пушкина, Достоевский свидетельствовал, что молодёжь провозглашала Некрасова «выше Пушкина». Футуристы сбрасывали Пушкина со своего заржавленного парохода. Марксистские критики объявляли его выразителем мелкопоместного дворянства. Наконец, непросвещённый народ, которого Пушкин по-просту именовал чернью, отплатил ему серией непристойных анекдотов. Но и на хулу, и на хвалу у Пушкина всегда было, что противопоставить, даже если при этом он отрицал самого себя. И отрицая, утверждался.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Книги похожие на "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Отзывы читателей о книге "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2", комментарии и мнения людей о произведении.