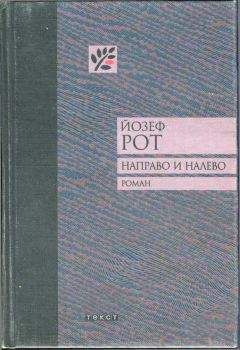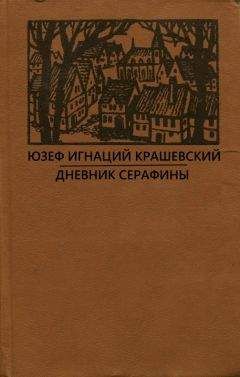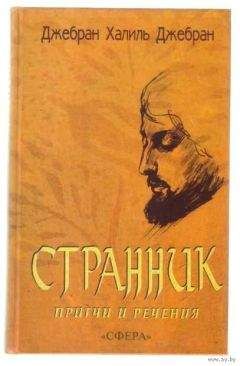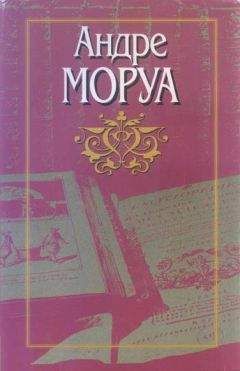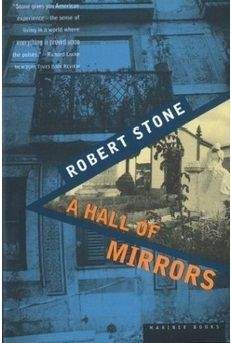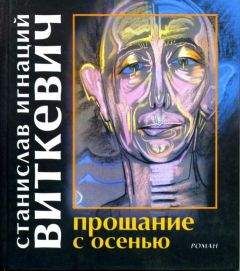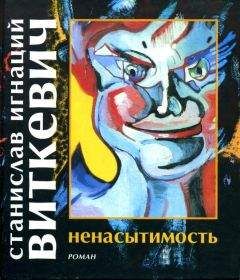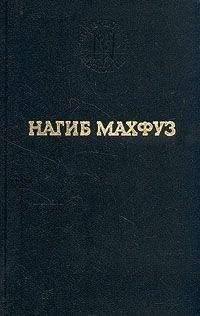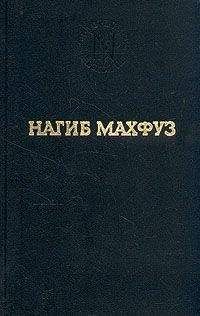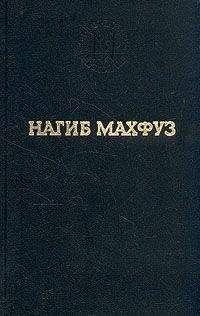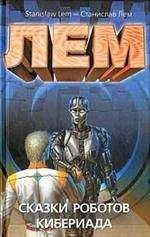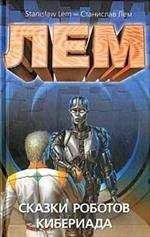Станислав Виткевич - Наркотики. Единственный выход
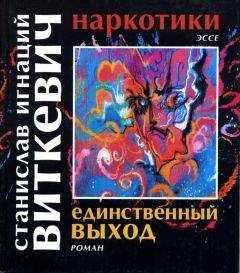
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Наркотики. Единственный выход"
Описание и краткое содержание "Наркотики. Единственный выход" читать бесплатно онлайн.
Станислав Игнаций Виткевич (1885—1939) — выдающийся польский писатель и художник авангарда. В своих произведениях показал деформацию и алогизм современной цивилизации, выразил предчувствие ее краха. В книгу вошли эссе «Наркотики» (1930) и роман «Единственный выход» (1931—1933), впервые публикуемые на русском языке.
— Ты перебрал дозу. Мадмуазель Суффретка, холодный компресс на сердце.
Она помчалась, быстрая, «как лань, проворна и легка».
— Ничего с тобой не случится, ты еще много выдержишь, — добавил Изидор, заметив внезапный проблеск смертельного страха в отсутствующих глазах Марцелия. Он хотел удержать его над самым краем пропасти безумия и смерти. Банально — что ж с того? — совсем прикажете не писать?
«Как же этот Уайтхед, должно быть, радовался (как ребенок), создавая свои конструкции, — что ж, если это на самом деле игра в кубики — то для действительности это ничего», — пронеслось у него в голове через последний завал приготовленных для «Гауптверка» мыслей — речь шла о том, почему в бытии должно существовать множество, почему оно не может быть абсолютным единством, в самом себе пребывающим — без какого бы то ни было отдельного содержания или отдельных объектов, не разбитое на пространственные куски, ни на индивидов во времени.
Как раз в выходные с утра он обратился к этому вопросу, когда телефонный звонок Суффретки вывел его из равновесия. Краем глаза он зыркнул на страшную картину, испытав неожиданное душевное потрясение и почувствовав своего рода кружение духовной башки. То, что он пытался оплести липкой паутиной понятий нечто аналогичное эфиру физиков прошлых лет, нечто бесконечно твердое и упругое, и одновременно нежное, как пушок, как облачко, — это нечто там содержалось без «либости», как это бывает в понятиях (либо твердое либо нежное), но объединяя эти два противоположных, непримиримых свойства одновременно в одной и той же точке пространства, как бы изъятой из него из-за своей недосягаемости и изолированной в другой, также бесконечной, неизвестной среде X.
И все же эта точка имела пространственные характеристики — пространство во все горло кричало в ней своей бесконечностью, горло, которого не было, которое было математической точкой, разодранной в аморфной неограниченной протяженности во все стороны Мироздания, — а сторон тех было немерено[245].
И одновременно таковость, а не инаковость этого магической четырехгранника равноположена таковости стоящего тут рядом оратора, который, трясясь от нечеловеческого внутреннего холода скрежетал стиснутыми зубами, росшими, казалось, не в его челюсти, а у какого-то огромного коня или какого-то гада в челюсти с одним желобком. А кроме того — цвета, дававшие четырехграннику собственную вечную жизнь (даже если бы он сгорел в эту минуту, достаточно было того, что хоть секунду, но он был, а был он нереален, как кусок мира, охваченный понятийными формами экстенсивной четырехмерной абстракции Уайтхеда), неподвижные до боли, цвета, как разноцветная кровь, кружили по векторным напряжениям отдельных масс в конкретных формах — в органах этого метафизического живого создания. Вся загадочность и неизученность цветов, исчезающая в их функциях как свойствах предметов, проявлялась здесь с устрашающей несводимостью. Вся куча изначальных фактов во всей невозможности хоть каким-нибудь образом охватить их пониманием была сбита в конструкцию бесцельную, беспричинную, не поддающуюся никакой интерпретации, но такую непреложную (с момента ее возникновения), как никакой (как могло бы ошибочно, конечно, показаться) закон математики или геометрии.
В эту минуту Изидор полюбил Марцелия, как еще никогда не любил, и страшно пожалел его — не его дух (которому он даже немножко, на какую-то долю секунды позавидовал), а его телесную ветошь, обреченную мазней на мытарства. Ветошь тряслась в абсолютной тщете, а две ленивые мухи (похожие на пчел) грелись на золотых листьях клена в осеннем солнце. И как бы было хорошо — попить пивка и умереть. А то здесь такие дела творятся! Марцелий бессвязно бормотал в адских мучениях:
— Во, видишь — а все потому — ха! — и что толку — никто не угадает, потому что даже я сам после всего не слишком помню свое состояние, а оно для меня — самое главное, а еще — чтобы то, что в моей голове находится в состоянии тумана, стало вне меня крепким, как стена — крепким и завершенным даже в самых микроскопических деталях. Ни в одной из фантазий частичные решения так не завершаются. Понимаешь — объективизация! — Ха-ха! — засмеялся он дико.
На мгновение опять сделалось хорошо — такие вот перепады, если передозировать, но спасаться новой «белой» дозой было уже невозможно — сердце бы разорвалось, да и мозг, к сожалению, не позволено так дразнить до бесконечности, потому что тоже, бестия, разорвется — вот в чем безумие-то. В такие минуты Марцелий находился на грани сумасшествия, наверное, только потому, что за эту пару лет он должен был выполнить долг художника перед самим собой и — опосредованно — перед обществом; и хотя этот последний немного сомнителен, но все же.
Марцелия, хлеставшего виски прямо из бутылки, они с Суффреткой завалили на козетку и сделали ему компресс на сердце. Он беспрерывно болтал, как будто в нем вдруг лопнула какая-то перепонка, до сих пор сдерживавшая словоизвержение. Страшные все это были вещи, и с ужасом вслушивался в них безвозвратно уходивший в себя Изидор, свернувшийся на диванчике до размеров комнатной собачки. Он впитывал слова друга, как сладко-горькую отраву, разрываясь между диаметрально противоположными чувствами — и в одних, и в других он попеременно черпал то адскую муку, то «дивную» сладость, причем порой совершенно независимо от их типа.
Жизненное содержание смешалось в отвратительную говнообразную размазню. «Pas de grandeur dans cette direction là»[246], но надо было идти вперед. Несозданная система, как грозное мощное привидение, зависшее летучей мышью над началом этого разговора, постепенно становилась меньше, мельче, мутнее, пока не превратилась в какое-то не родившееся еще во внутренностях души дерьмецо. А тот, другой, все молол языком, как обреченный на нечеловеческие муки, заходился, харкал, плевался и говорил «как заведенный», и каждое слово было для друга и смертельной пулей, и конфеткой одновременно. Потому что Изя хотел быть добрым любой ценой, а тут жизнь, казалось бы, совершенно пассивно, в силу одного лишь факта существования Марцелия, перевернула все его дела от самых основ до самого зенита. Кто должен был за это ответить и перед кем? Не перед Пэ-Зэ-Пэпом же; нет уж, перед кем угодно, только не перед ним. А там, дома (он наверняка знал об этом точнее, чем любой теософ или астральный ясновидец), Русталка, которую он оставил еще в постели под шелковым оранжевым одеялком, как раз начинала «хлопотать по дому», разнося свою отмеченную его мужским началом женственность по всем уголкам «опрятненькой квартирки». Дело ведь не в хоромах и первоклассных поварах, и не в драгоценностях, не в туалетах, не в безделушках и картинах (так в чем же, черт побери?!). Почему все это кажется ему сегодня таким ненавистно жалким? Ну да, он знал об этом: пока что на повестке дня его собственная духовная структура, его личное величие, актуализация которого (слава, памятники, признание, деньги и т. п.) могла быть, но не обязана была быть всего лишь подчиненной функцией первого.
Нет, так жить он больше не мог — он должен собственными силами поставить на ноги и ее, и себя, и этого вот несчастного отравленного мученика Великой Химеры и отнести их обоих на своем жалком горбе в то измерение мысли, в котором все откупится и окупится (ни малейшей иронии), как настоящим чеком, выписанным на солидный банк (или что-то в этом роде — Изидор не был силен в финансовых сравнениях). Заигрывать с жалкой публикой? Ну нет уж!
А тот несчастный все болтал, и постепенно из его болтовни проступал разговор двух «духовных братьев» — самый страшный из всех возможных разговоров — разговорчик-зараза, разговорчик-смерть, разговорчик-предательство, предательство любви, чести и дружбы. Надо обладать реальной силой, чтобы самому себе предъявить требования, если такой силы нет, то ты — достойный презрения гнилой потрох — и эту банальную истину оба ощущали костями, но не более ли истинно воплотил ее в своем падении Марцелий? Не был ли он в большей степени тем, кем должен был быть, если вообще имеет хоть какой-нибудь смысл вся эта болтовня о миссии и ее выполнении — не чепуха ли это? Не был ли Марцелий «героем сданного плацдарма», в то время как он, Изидор, стал удобно офилистерившимся самообманщиком, делающим вид, что может еще сказать в философии нечто важное. «О Боже, Боже, — думал Изя, — как удобно было бы, если бы Ты был, несмотря на весь вызываемый Тобою страх; я бы тогда помолился и знал, что делать». Он завидовал Русталке, ее духовной уверенности, пусть даже достигнутой ценой обмана. Он внимательнее прислушался к словам Марцелия, долетавшим откуда-то из другого мира гадкой Белой Колдуньи: они были точно такими же, какими оперировали здесь, в четырехмерном пространстве Уайтхеда — только они были беспорядочно спутаны и облачены в больничные горячечные рубахи, в кровавые мокрые пятна и сухие электрические зеленоватые зигзаги. Безумие пребывало между ними, а не в них.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Наркотики. Единственный выход"
Книги похожие на "Наркотики. Единственный выход" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Станислав Виткевич - Наркотики. Единственный выход"
Отзывы читателей о книге "Наркотики. Единственный выход", комментарии и мнения людей о произведении.