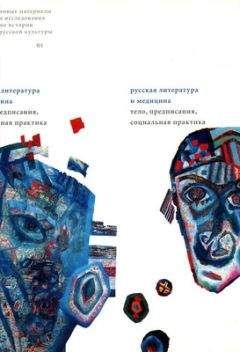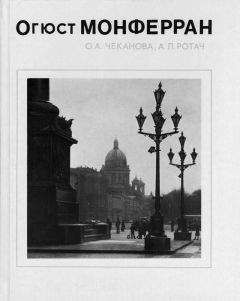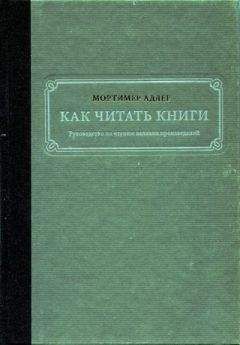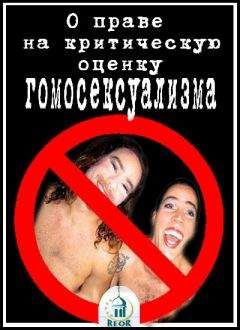Ольга Глазунова - Иосиф Бродский: Американский дневник

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Иосиф Бродский: Американский дневник"
Описание и краткое содержание "Иосиф Бродский: Американский дневник" читать бесплатно онлайн.
С другой стороны, при интерпретации этого отрывка нельзя не учитывать факт, который относится к современности: после подписания в 1951 году Женевской конвенции о статусе беженцев Швеция (в отличие, например, от Финляндии) не выдавала перебежчиков — информация немаловажная в контексте стихотворения. Таким образом, можно предположить, что образ Витовта в XII строфе имеет метафорическое значение.
Вернемся к началу строфы: "Полночь. Сойка кричит / человеческим голосом и обвиняет природу / в преступленьях термометра против нуля". Термометр — это лишь следствие, формальный показатель причины — температуры окружающей среды. "Сойка" человеческим голосом обвиняет термометр, то есть следствие, в преступлениях против причины — температуры.
Теперь попытаемся соединить все вместе. Полночь — то, что предшествует ночи, в которую погружается автор, сопровождалась криками сойки и лишенными логики обвинениями, в которых следствие рассматривается как причина. Обратимся к "Литовскому дивертисменту", написанному перед отъездом в 1971 году: Бессонница. Часть женщины. Стекло полно рептилий, рвущихся наружу. Безумье дня по мозжечку стекло в затылок, где образовало лужу. Чуть шевельнись — и ощутит нутро, как некто в ледяную эту жижу обмакивает острое перо и медленно выводит "ненавижу" по прописи, где каждая крива извилина.
При тех чувствах, которые владели автором до отъезда, трудно ожидать от него сдержанности. Что имел в виду Бродский, говоря об обвинениях "сойки"? Может быть, известную фразу о том, что каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет. А может быть, то, что и сами обвинители не без греха: их отъезд был не следствием политической ситуации в стране, а причиной — самоцелью, ибо, как писал Бродский:
"Изгнание — нынче совсем не то, что раньше. Оно состоит не в том, чтобы отправиться из цивилизованного Рима в дикую Сарматию или выслать человека, скажем, из Болгарии в Китай. Нет, теперь это, как правило, — переход из политического и экономического болота в индустриально передовое общество с новейшим словом о свободе личности на устах. И следует добавить, что, возможно, дорога эта для изгнанного писателя во многих отношениях подобна возвращению домой, потому что он приближается к местонахождению идеалов, которыми всю жизнь вдохновлялся". Поэтому бесполезно в сложившейся ситуации обвинять кого-то или жаловаться на бессмысленность своего существования, необходимо взять на себя ответственность за то, что произошло: "Мы могли бы перестать быть просто болтливыми следствиями в великой причинно-следственной цепи явлений и попытаться взять на себя роль причин. Состояние, которое мы называем изгнанием, — как раз такая возможность". ("Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро", 1987) (выделено — О.Г.).
Отсюда сравнение с Витовтом: "бросив меч", они погнались за "убежавшей по волнам" призрачной "свободой", забыв, что земля "завершается молом" (тупиком), а свобода недосягаема, потому что бежали они не к свободе, а от одного зла к другому.
"Усилья бобра", пытающегося отгородиться "запрудой", создать подобие "тихой гавани", заканчиваются плачевно, так как "ручеек серебра" (вдохновения?) исчезает. Для вдохновения нужны потрясения, эмоциональные взлеты и падения, а не запруды.
Конечно, любое толкование уязвимо, тем более толкование художественного произведения, так как при анализе мы не можем опереться ни на что другое, кроме своей интуиции. Анализ художественного произведения — это, пользуясь системой обозначений Бродского, своего рода субъективность в квадрате: на субъективный мир автора накладывается субъективное восприятие читателя или критика. И можно сколько угодно сокрушаться по этому поводу, но надо отдавать себе отчет в том, что иного пути нет.
С другой стороны, хотя поэзия не точная наука, но и в ней есть свои оценочные критерии, основанные, по мнению Бродского, на готовности принять чужую точку зрения как свою собственную: "Ибо то, что составляет открытие или, шире, истину, как таковую, есть наше признание ее. Сталкиваясь с наблюдением или выводом, подкрепленным очевидностью, мы восклицаем: "Да, это истинно!". Другими словами, мы признаем предложенное к нашему рассмотрению нашим собственным" ("Кошачье "Мяу"", 1995).
Поэтому рискнем предложить данное объяснение — чем больше гипотез, тем лучше, а уж дело читателя разбираться в том, чья версия выглядит более правдоподобно.
3.
Развитие темы памяти продолжается в следующей строфе с описания полночи как возвращения в прошлое: "Полночь в лиственном крае, / в губернии цвета пальто". В XIII строфе Литва обозначена одновременно как часть Российской империи ("губерния", облако в виде отреза на рядно (изделие из грубого полотна) сопредельной державе) и часть Советского Союза ("обутый в кирзу человек государства", наполняющие эфир "запрещенья безымянных вещей").
При описании республики поэт использует метафорические образы, передающие неброскость красок ("губерния цвета пальто"); удары колокола, которые запечатлеваются в сознании как знаки, выдавливаемые на сырой глине ("колокольная клинопись"), зависимое положение республики ("облако в виде отреза / на рядно сопредельной державе").
По тому как разворачивается действие, можно сделать вывод, что в XIII строфе мы возвращаемся к прерванному полету автора, а "ночной кислород / наводняют помехи, молитва, сообщенья / о погоде, известия, / храбрый Кощей / с округленными цифрами, гимны, фокстрот, / болеро, запрещенья / безымянных вещей" — то есть вполне реальные звуки.
Путешествие заканчивается в Каунасе: "Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор, / выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее. / Входит в "Тюльпе", садится к столу". Томас Венцлова отмечает необычность этого факта: "Квартира адресата находится в Вильнюсе, но призрак, разговаривающий с ним, бродит по Каунасу"[65].
Упоминание Каунаса, а не Вильнюса в контексте стихотворения, конечно, не случайно, и дело здесь не в забывчивости или небрежности со стороны Бродского. Выбирая место для приземления, не об адресате стихотворения думал поэт, а о двух литовских летчиках, возвращавшихся в Литву из Америки. Их судьба с самого начала занимала его воображение, их полет через Атлантику он стремился повторить. А летели они не в Вильнюс, а в Каунас, о чем сообщил нам в статье Томас Венцлова. Поэтому и бродит призрак поэта по улицам Каунаса, как мечтали Гиренас и Дариус, отдавая дань уважения их памяти.
Описывая свое пребывание в Каунасе, поэт говорит о преимуществе незримого состояния: "Кельнер, глядя в упор, / видит только салфетки, огни бакалеи, / снег, такси на углу; / просто улицу. Бьюсь об заклад, / ты готов позавидовать". От рассмотрения незримости как детали, упрощающей быт (возможность возвращения на родину в обход формальностей), автор переходит к философскому ее осмыслению.
"Незримость", "бестелесность", "отсутствие" есть первый шаг на пути к смерти: "как уступка тела душе", "как маскхалат Рая", "как затянувшийся минус". Сравните: "Отсутствие есть всего лишь / домашний адрес небытия" ("Наряду с отоплением в каждом доме существует система отсутствия", 1992), "поэтому небытие, т. е. смерть, целиком и полностью состоящее из отсутствия, есть не что иное, как продолжение языка" ("Об одном стихотворении", 1980).
Для поэта отсутствие — это не временное состояние, а основа бытия, которое в силу этого самого отсутствия превращается для него в небытие, в смерть. Американские исследователи творчества Бродского любят цитировать его фразу: "За одну ночь изгнание переносит вас туда, куда в обычных условиях добираться пришлось бы целую жизнь", понимая ее в том смысле, что изгнание делает человека мудрее, опытнее, как бы приподнимает его над действительностью.
Конечно, при интерпретации возможны варианты, однако, надо отметить, что в данном случае структура предложения не оставляет нам возможности для выбора. Союз "куда" указывает на место, а не на состояние. Если бы Бродский (а он очень внимательно относился к тому, что писал) хотел сказать о своем состоянии, для этой фразы он выбрал бы другую синтаксическую конструкцию: "в то состояние, обрести которое можно, прожив всю жизнь".
Вполне естественно задаться вопросом, куда же попадает человек, жизнь которого прожита. Ответ очевиден: он оказывается на пороге смерти. Это единственно возможный вариант при толковании фразы на лингвистическом уровне, а дальше, безусловно, можно говорить о том, что в конце жизни человек испытывает особое состояние — можно назвать это даже состоянием просветления… Хотя обычно при слове "смерть" возникают совсем другие ассоциации.
С иронией рассуждая о том, что "все в барыше от отсутствия", от его небытия, поэт подробно перечисляет "заинтересованных": "горы и долы"; "медный маятник, сильно привыкший к часам" (вероятно, намек на тело, которому нелегко расставаться с удобствами жизни в Америке[66]); "Бог, смотрящий на все это дело с высот"; "зеркала", которым не надо отражать тело; "коридоры", по которым не ступает нога; "соглядатай", которому не нужно за тобой присматривать; "ты сам", которому не приходится никому ничего объяснять.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Иосиф Бродский: Американский дневник"
Книги похожие на "Иосиф Бродский: Американский дневник" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Глазунова - Иосиф Бродский: Американский дневник"
Отзывы читателей о книге "Иосиф Бродский: Американский дневник", комментарии и мнения людей о произведении.