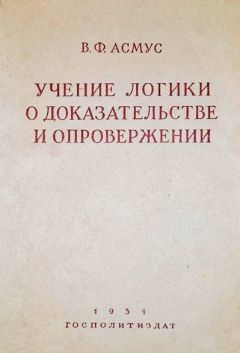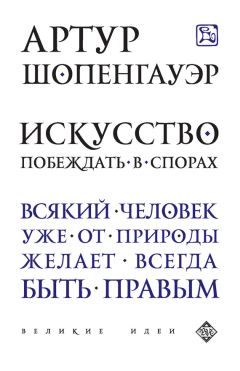Плотин - Эннеады

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эннеады"
Описание и краткое содержание "Эннеады" читать бесплатно онлайн.
Плотин (др. — греч. Πλωτινος) (род. 204/205, Ликополь, Египет, Римская империя — ум. 270, Минтурны, Кампания) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Определил Божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путем эманации («излияния»). Пытался синтезировать античный политеизм с идеями Единого. Признавал доктрину метемпсихоза, на которой основывал нравственное учение жизни. Разработал сотериологию неоплатонизма.
Родился в Ликополе, в Нижнем Египте. Молодые годы провел в Александрии, в свое время одном из крупнейших центров культуры и науки. В 231/232-242 учился у философа Аммония Саккаса (учеником которого также был Ориген, один из учителей христианской церкви). В 242, чтобы познакомиться с философией персов и индийцев, сопровождал императора Гордиана III в персидском походе. В 243/244 вернулся в Рим, где основал собственную школу и начал преподавание. Здесь сложился круг его последователей, объединяющий представителей различных слоев общества и национальностей. В 265 под покровительством императора Галлиена предпринял неудачную попытку осуществить идею платоновского государства — основать город философов, Платонополь, который явился бы центром религиозного созерцания. В 259/260, уже в преклонном возрасте, стал фиксировать собственное учение письменно. Фрагментарные записи Плотина были посмертно отредактированы, сгруппированы и изданы его учеником Порфирием. Порфирий разделил их на шесть отделов, каждый отдел — на девять частей (отсюда название всех 54 трактатов Плотина — «Эннеады», αι Εννεάδες «Девятки»).
От этого созерцания в нем самом зарождаются зачатки сущностей, эйдосов, которые он приводит в сознание и созерцает, словом, что называется, мыслит, между тем как Бога он созерцает той силой, которая составляет основу и сущность самого его мышления.
Поэтому, когда душа созерцает Бога, то присущий ей ум как бы совсем стушевывается и исчезает, несмотря на то, что, собственно говоря, в этом случае созерцание начинается в уме, но так как оно проникает и в душу, то тут уже происходит слияние ума и души воедино.
Другими словами, тут происходит вот что: само Благо, как бы простираясь над Умом и Душой, нисходит в них, согласно желанию их обоих, и, соединив их с собой воедино, доставляет им в созерцании себя величайшее наслаждение и блаженство, причем так высоко их поднимает, до такой степени восхищает, что они не сознают, где именно находятся, не знают даже, находятся ли вообще где бы-то ни было и в чем бы~то ни было.
Это и понятно, потому что Благо само нигде и ни в чем не находится; само, так сказать, умопостигаемое пространство им объемлется, но оно нигде не заключается даже в этом пространстве.
В этом состоянии душа остается безо всякого движения, потому что и Благу чуждо всякое движение, она тут как бы перестает быть душой, потому что и Благо не нуждается в жизни, но стоит выше всякой жизни, перестает быть умом, всецело уподобляясь и сливаясь с Благом, потому что оно не Ум, а выше Ума; наконец, собственно говоря, она не мыслит и самого Блага, потому что в этом состоянии не мыслит совсем.
После всего сказанного остальное понятно само собой, однако, с того пункта, которого мы достигли, не будет лишним повести наши размышления и несколько дальше.
Познание Блага, или, если можно так выразиться, прикосновение к нему, есть несомненно величайшее благо для нас, и вот почему Платон называет это познание величайшей, самой высшей наукой. Но он понимает под такой наукой не сам акт созерцания Блага, а то знание о нем, которое должно предшествовать созерцанию.
Это знание приобретается частично путем аналогии, частично путем абстракции, частично путем рассмотрения того, что происходит от Блага, как от своей причины, а главным образом путем методического восхождения по неким ступеням, ведущим к достижению Блага. Ступени эти суть: очищение молитвой, украшение добродетелью, воспарение после отрешения от всего чувственного в мир сверхчувственный, ноуменальный и старание всячески удержаться в нем, а затем то описанное выше угощение дарами и благами этого мира, в котором душа становится разом и созерцающей, и созерцаемым для самой себя и для всего прочего.
Пройдя мыслью и жизнью через ступени субстанции, ума, совершенно живого существа, она, наконец, перестает все это видеть, как нечто положенное вне себя, и приближается к тому, что стоит выше всех эйдосов и освещает их своим светом; тут она покидает все то знание, которое привело ее сюда, и, сосредоточив свои взоры всецело на этой красоте, ничего не имеет в мысли, кроме нее одной, а потом, поднятая как бы на волне Ума еще выше, она вдруг усматривает что-то, сама не ведая, что и как. В этом своем видении она чувствует одно, что ее взор наполнен светом, но вне себя чего-нибудь другого она не видит; видит один свет — и больше ничего.
Тут не то, что на одной стороне свет, а на другой — видимый в этом свете предмет, или особо мыслимая им сущность, тут налицо только один свет — тот свет, от которого потом происходит и в котором сохраняет существование все прочее. Этот самосущий свет прежде всего рождает из себя Ум, но, рождая его, сам не истощается в нем и по-прежнему пребывает в самом себе, и только потому, что он таков, может произвести другой свет, а будь он иным, тогда этот другой не мог бы ни произойти, ни существовать.
Некоторые философы полагают, что верховное начало есть мыслящее, но при этом не допускают, что его мышление простирается и на то, что происходит от него и стоит ниже его, а другие утверждают, что его ведение должно простираться на все, и всякое иное мнение считают нелепым.
Первые, исходя из того убеждения, что нет и не может быть ничего высшего, чем это начало, приписывают ему мышление и только прибавляют, что мышление его есть мышление самого себя, как будто мышление может что-нибудь прибавить к его величию, как будто для него мыслить составляет что-то большее, чем быть тем, что оно есть, как будто не оно же самому мышлению сообщает все его значение и достоинство.
Чему, спрашивается, оно обязано своим превосходством над всем — мышлению или самому себе? Если мышлению, то в таком случае оно само по себе не только не есть высшее всего, в том числе и мышления, но даже есть низшее; а если самому себе, то тогда оно обладает всей полнотой совершенства и прежде мышления, и, значит, мышление вовсе не обуславливает его совершенства.
Да и почему оно непременно должно мыслить? Уж не потому ли, что оно есть актуальная энергия, а не простая потенциальность? Но так как под актуальной энергией, в отличие от потенциальности, понимается не что иное, как субстанция, которая всегда мыслит, то ясно, что кто определяет Первое начало как энергию, тот делает его составным, состоящим из двух элементов — субстанции и мышления, и, таким образом, вместо того, чтоб мыслить его, как совершенно простое, прибавляет к нему и нечто другое, подобно тому, как, например, говорится, что к глазам должна присоединяться актуальная энергия зрения для того, чтобы они всегда могли смотреть и видеть.
Скажут, пожалуй, что Первое начало есть в том лишь смысле энергия, что эта энергия тождественна с мышлением; но, если так, если Первое начало есть само мышление, то тогда следует согласиться, что само мышление не мыслит, как и само движение не движется. А если станут настаивать на том положении, что актуальная энергия есть вместе и субстанция, и мышление, то мы на это скажем, что этим самым допускается уже множественность и различие, тогда как Первое начало есть абсолютно простое, и что только уже происходящему от него другому началу свойственно мыслить, как бы находить мыслью свою сущность, самого себя, да и то Первое начало, ибо только обращая свою мысль на него, созерцая и познавая его, оно становится Умом в истинном смысле слова.
Тому же началу, которое есть непроисходящее, которое не имеет ничего ни прежде, ни выше себя, которое от вечности есть то, что есть, какая надобность ему мыслить?
Платон вполне справедливо говорит об этом начале, что оно выше самого Ума. В самом деле, если бы Ум не мыслил, то он не был бы в полном смысле Умом, ибо для принципа, сама природа которого состоит в мышлении, перестать мыслить — значит стать неразумным, лишенным ума, а если какой-либо принцип не имеет никакой функции, то нельзя же навязывать ему какую-либо определенную функцию и затем, в виду того, что он ее не выполняет, укорять его, например, в том, что он совсем не занимается врачебной практикой.
Но верховное начало именно таково, что ему нельзя приписывать никакой функции, потому что никакая ему не приличествует. Довольно ему и самого себя, нет смысла искать в нем чего-то еще иного, кроме него, когда оно выше всего. Тем, что оно есть в самом себе, оно довлеет и самому себе, и всему существующему.
По нашему мнению, о Первоедином нельзя говорить даже "Оно есть", ибо оно даже в этом не нуждается, нельзя тем более говорить "Оно есть благим", поскольку, когда мы так говорим, то относим глагол "есть" к тому же самому, к чему и слово "благое", и значит глагол "есть" вовсе не играет тут роли предиката, определяющего понятие логического субъекта, но имеет целью выразить, что такое есть сам субъект.
Поэтому, когда мы называем его просто Благом, то этим хотим дать понять, что вовсе не предицируем в нем блага, то есть признаем благо не за нечто только ему принадлежащее, или в нем находящееся, а, напротив, утверждаем, что оно есть само Благо. Мы не одобряем даже выражения "Оно есть благо" и полагаем, что вообще никакого слова не следует ставить перед словом "Благо"; и так как, с одной стороны, мы не можем выразить его природу иначе и лучше, чем словом "Благо", а с другой — не должны вносить в нее ничего иного, то, в виду того обстоятельства, что даже глагол "есть" тут не нужен, мы говорим о нем просто "Благо".
Но, возразят нам, разве мыслимо, чтобы верховное существо не обладало самочувствием и самосознанием? В ответ на это мы, в свою очередь, спросим, какое же познание может быть свойственно этому существу и как оно выразило бы свое знание? Скажет ли оно о себе "Я есмь"? Но оно не есть, то есть не детерминируется предикатом бытия, так как бытие им же полагается и им детерминируется.
А почему не сказать ему о себе "Я есмь Благо"? Да потому, что в этом случае оно детерминировало бы себя предикатом бытия. А зачем, спросим мы, нужно ему, назвавши себя просто Благом, еще что-либо прибавлять к этому? Ведь благо можно мыслить и без утверждения его бытия, ибо такое утверждение необходимо лишь в том случае, когда благо мыслится как свойство, как предикат.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эннеады"
Книги похожие на "Эннеады" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Плотин - Эннеады"
Отзывы читателей о книге "Эннеады", комментарии и мнения людей о произведении.