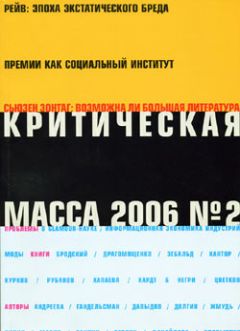Журнал - Критическая Масса, 2006, № 2
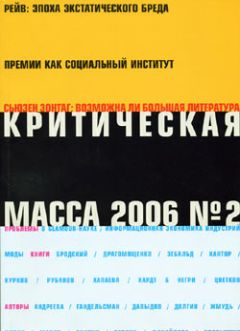
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Критическая Масса, 2006, № 2"
Описание и краткое содержание "Критическая Масса, 2006, № 2" читать бесплатно онлайн.
Рецензионно-аналитическое обозрение «Критическая Масса» — это уникальное периодическое издание, издаваемое Фондом «Прагматика культуры» с декабря 2002 года. Журнал изначально предпринял попытку новаторского самоопределения внутри ниши интеллектуальной периодики. В плоскость критической оптики на этот раз попадает не столько собственно современный литературный процесс, сколько «общая» социальная фактура, семиотическая множественность, размытая в повседневности.
Для «КМ» нет тем низких или высоких, так как его (журнала) рефлективная способность позволяет переваривать любое культурное сырье с должным интеллектуальным аппетитом и в благородной компании. Авторы —именитые интеллектуалы, реализованные в разных гуманитарных сферах и проектах, но на страницах «Критической Массы» проявляющие свои свободные от форматов позиции.
Главное достоинство журнала в том, что в «составе» его тем не последнее место уделяется анализу культурных фактов с точки зрения их «экономики» — не в строго дисциплинарном смысле, а в значении ресурса их происхождения и приятия потребителем. Анализ коммерческих культурных продуктов делается с поэтическим остроумием, тогда как некоммерческие артефакты разглядываются сквозь лупу денег. «Критическая Масса» — свободная публичная площадка, принимающая стилистику современности, и, как нам кажется, в меру своих сил оттачивающая ее.
Мало кто в России отдает себе отчет в том, насколько роман Рушди эмигрантский по своему тону и тематике и насколько он оскорбителен для мусульманской общины в Великобритании. Что касается самого Салмана Рушди, то его английское воспитание и пакистанское происхождение проявлялись в разной степени в зависимости от обстоятельств — как, скажем, изменилось его отношение к Англии после того, как он осознал, что больше не сможет (как это делал ежегодно) появляться на индийском континенте. Дело даже не в том, что он — выпускник Кембриджа, что само по себе приписывает его к британской элите; гораздо важней, что он закончил одну из лучших (после Итона) частных школ в Англии — Rugby. Для британских мусульман (главным образом из Пакистана) Рушди стал своего рода Эдуардом Лимоновым — но только вместо нервных оскорбительных закидонов, выпадов в адрес и камней в огород Солженицына как агента ЦРУ тут появляется коррумпированный имам в фешенебельном лондонском Кенсингтоне, явно списанный с иранского аятоллы в Париже. Сам аятолла и его муллы не заметили бы книги — это заботливые мусульмане прислали им самые интересные цитаты из Лондона. Зная все это уже сейчас, я понимаю, почему так задело Салмана Рушди десять лет назад мое эссе «Двуязычное меньшинство»: прежде всего, своим названием. Речь шла о понимании литературы как некого гибрида между интимностью личного общения и общественной гласностью, площадной публичностью; между личным разговором и языком толпы. Я говорил о том, что «писатель по природе своей есть двуязычное меньшинство в толпе единомышленников». Эта двуязычность может быть спровоцирована и идеологическим двурушничеством (в советском конфликте власти и интеллигенции), и религиозной расщепленностью в век атеизма, и (как, скажем, лично для меня) эмигрантской раздвоенностью. Это не значит, что писатель как личность, как гражданин не может исповедовать некую цельную и последовательную идеологию, даже стать партийным деятелем. Но эта партийность не всегда выражается однозначно. Аполитичность — это тоже политическая позиция. В связи с этим у меня и возник пассаж о Салмане Рушди.
Дело было вот в чем. В своем довоенном эссе «В чреве китовом» Джордж Орвелл, анализируя порнографическую прозу Генри Миллера 1930-х годов о Париже американцев-экспатриантов, говорил, что в умолчании Миллером идеологических дилемм эпохи — единственно достойная, возможно, политическая платформа в тогдашней атмосфере манипулирования такими моральными категориями, как общественный долг, совесть, соучастие (это была эпоха гражданской войны в Испании). В связи с этой мыслью я и процитировал памфлет Салмана Рушди, где он подверг Орвелла убийственной критике именно за аполитичность, обвинил его в буржуазном эскапизме и призвал (как я тогда считал) всю мыслящую интеллигенцию «к штыку приравнять перо».
О «Сатанинских сурах» я тогда еще не слышал: они еще не вышли в свет. Эссе было написано мной по заказу организаторов [118] международной литературной конференции в мае 1988 года в Лиссабоне, где было более семидесяти участников из разных стран мира. В первый же день в группе британских писателей я увидел Салмана Рушди. Мое эссе, переведенное на все мыслимые языки мира, должно было служить поводом для дискуссии во время обсуждения современных проблем русской литературы. Точнее, русско-советской литературы. И русской не-советской литературы. Не считая советской не-русской литературы. За столом на сцене делегаты и делились по этим категориям: как представители «русской советской» литературы — Лев Аннинский, Татьяна Толстая и Анатолий Ким; от советской не-русской литературы — Грант Матевосян; а от русской не-советской — Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и ваш покорный слуга.
Мы все нервно делали друг перед другом вид, что советских границ не существует. Мы все, мол, бывшие советские, ныне антисоветские, разбросанные по всему миру — от Москвы до Нью-Йорка — люди слова, а не дела и грязными политическими склоками заниматься не собираемся. Однако каждый чувствовал себя (по отношению друг к другу) вроде еврея или негра — находился в постоянном ожидании, что наступит момент, когда ему на это укажут. Даже Таня Толстая (мы тут же подружились) как будто только и ждала повода почувствовать себя оскорбленной. В один из первых дней, во время разговора о русской литературе (о другом пока говорить не решались), она упомянула какое-то имя и произнесла стандартный комплимент в адрес этого автора: «Он — лучший писатель своего поколения». Самый лучший? «Самый». А почему обязательно должен быть «самый лучший»? И какого поколения? Что следует называть «своим поколением» — не по возрасту же? Почему в русской литературе непременно такая жесткая иерархия? В ответ на эти бойкие вопросы я вдруг услышал от Татьяны:
«А чего вы нас отождествляете с советской властью?!» Видимо, все, что было в России отрицательного, воспринималось как тоталитарно-советское, а все, что было сказано о русской литературе, воспринималось лично на свой счет — хотя все мы готовы были подписаться под общей декларацией полной аполитичности героев-одиночек. Один только Грант Матевосян вроде бы не скрывал своей общественно-политической позиции: «Гады! Гады! Гады!» — повторял он периодически и довольно громко, неясно, в чей адрес. Лишь в конце нашего пребывания в Португалии я решился спросить его — кого он имеет в виду? Выяснилось, что, глядя на дворцы и ландшафты Португалии, он не мог забыть, что сотворили «гады» — советское руководство — с его собственной маленькой родиной.
Больше всего в присутствии компатриотов и товарищей по оружию (перу) нервничал Сережа Довлатов: «Я так нервничал, Зиновий, только раз в жизни» — говорил он. И рассказал мне историю про то, как он с женой после какой-то пьянки шел по ночному Нью-Йорку и заблудился в даунтауне. Это была душная, влажная нью-йоркская летняя ночь. На улицах валяются бродяги и бродят доходяги. Жуть. И вдруг из переулка появляется гигантский негр. И движется прямо на них. Негр почти голый, мускулы размером с пудовые гири, с шеи свисают цепи, на руках браслеты, волосы заплетены в африканские косы. Довлатов решил: все, конец. Все дальнейшее рассказала ему жена. На мгновение оцепенев, Сергей встряхнулся и бросился вперед, навстречу негру, схватил его в свои объятия и — поцеловал! Прямо в губы. Взасос. «Ты видел когда-нибудь белого негра?» — спрашивала его потом жена. Дело в том, что негр от этого поцелуя совершенно побелел. От ужаса. Он глянул с побелевшим лицом на огромного, чуть ли не двухметрового Довлатова и бросился бежать с криками ужаса, гремя цепочками и браслетами.
Я ждал, как ему удастся снять нервное напряжение на этот раз. В отличие от своего старого приятеля Бродского, Довлатов чувствовал свою отчужденность и среди элиты англоязычной литературы, и среди советской, когда-то родной ему шатии-братии. Пил с каждым днем все больше и больше.
«Насчет двуязычного меньшинства, — говорил Сережа, чокаясь со мной в перерыве между заседаниями. — Вот вы, Зиновий, преотлично изъясняетесь на английском. А обращали ли вы внимание, кто с вами общается в Лондоне из англичан? Я имею в виду: какого рода иностранцы у вас в друзьях? Если вы внимательно на них посмотрите, вы поймете: все они неполноценные. Не обязательно психически. Но с каким-то непременно изъяном. Потому что нормальный человек с нами общаться не станет. Зачем?»
Вокруг нас — эмигрантских авторов — ходил Анатолий Ким, иногда дотрагиваясь до нас, и повторял: «А я думал: Бродский и все вы на Западе — это какие-то вымышленные персонажи, вас в Москве придумали, ради шутки».
Но все мы вполне реально оказалась на одной, «российской панели», за одним столом заседаний. От имени «советской» делегации выступал Лев Аннинский. Я не слишком ждал от него ответа на мое сочинение: достаточно было того, что всех их выпустили за границу — это была первая, официально разрешенная, встреча советской элиты с эмиграцией. В ответ на мою идеологическую двуязычность Аннинский проводил хитроумные параллели между гитлеризмом и сталинизмом (западный Гитлер не лучше, мол, восточного Сталина), что неудивительно было в ту еще робкую «перестроечную» эпоху. Сидя по левую руку от Довлатова с Бродским на противоположном конце стола, я с ужасом наблюдал, как Салман в первом ряду что-то чиркает на листочках. Когда отзвучал Лев Аннинский и затихли аплодисменты (с синхронным переводом как минимум на четыре языка), наступила скучноватая пауза. И тут поднялся Рушди. Он спросил, почему Лев Аннинский не обсуждает эссе «Двуязычное меньшинство», где, по его мнению, Зиновий Зиник выдвинул против него, Салмана Рушди, ложные обвинения: он никогда не призывал к партийности в литературе и, тем более, не предлагал к штыку приравнять перо. Рушди, по его словам, лишь утверждает, что писатель по своей природе неизбежно входит в конфликтные отношения с обществом, становится политической фигурой по необходимости. Такая проницательная и безупречная интерпретация темы «политика и литература» несколько снижала пафос моего сочинения. Пафос этот, собственно, сводился к незамысловатому лозунгу «Долой литературу идеологических позиций — как советских, так и антисоветских» и был навеян исключительно российской ситуацией тех лет. Но в душе я прекрасно отдавал себе отчет, что тема поэта и толпы существовала еще до советской власти, как, впрочем, и тема тюрьмы, психбольницы («не дай мне Бог сойти с ума»), посоха и сумы — то есть эмиграции. Я все же вывернулся, ответив Рушди, что писатель должен чуждаться роли посредника между людьми и Богом, отдавать себе отчет в том, что идеи в литературе — персонажны, меняются от романа к роману. Писатель, в отличие от священника или политика, разделяет с одинаковым энтузиазмом идеи и взгляды каждого из своих героев. И именно поэтому письменный стол — не кафедра проповедника и не политическая платформа. Татьяна Толстая посмотрела на меня одобрительно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Критическая Масса, 2006, № 2"
Книги похожие на "Критическая Масса, 2006, № 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Журнал - Критическая Масса, 2006, № 2"
Отзывы читателей о книге "Критическая Масса, 2006, № 2", комментарии и мнения людей о произведении.