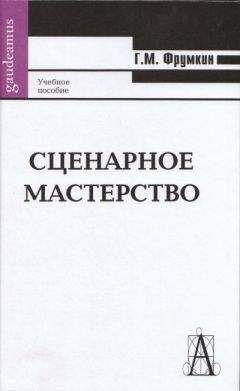Н. Зверева - Мастерство режиссера
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мастерство режиссера"
Описание и краткое содержание "Мастерство режиссера" читать бесплатно онлайн.
Так и актер, всем существом ощутивший сверхзадачу, необходимейшую, эмоционально-действенную цель роли, которой он добивается в новом для него мире - мире пьесы, - преобразует себя внутренне. Это, естественно, накладывает отпечаток на весь его облик - манеру поведения и внешность.
Иногда это обретение характерности, в которой органично выражается схваченная суть характера, его «зерно», свершается довольно быстро и отчетливо. Актер вдруг преобразуется внешне за одну-две репетиции. Еще вчера он репетировал в своем костюме, а сегодня уже что-то подбирает перед началом в костюмерной и реквизиторской и… внезапно меняются взгляд, ритм движений, речь, пластика, манера поведения. Вероятно, именно такая счастливо-естественная перемена произошла со Станиславским, работавшим над ролью доктора Шток-мана. Чаще маленькие, едва уловимые изменения накапливаются медленно, день за днем, становясь все отчетливее и выразительнее.
Бывает и так, что актеру, уже ощутившему суть роли, ее «внутренний склад души», мучительно не хватает какой-то детали внешнего облика, костюма, реквизита, чтобы это ощущение в нем окрепло, чтобы появилась уверенность в необходимости совершаемых действий и смелость в манере поведения. Словом, до перевоплощения в образ, которому эти уверенность и смелость обьино сопутствуют, не хватает какого-то необходимого штриха.
Напомним пример, ставший почти классическим. «Станиславский любил рассказывать о том, как долго он мучился, прежде чем увидел своего Крутицкого, - пишет М. О. Кнебель. - Он понимал его характер, знал бесконечное упрямство, влюбленность в свой птичий ум, но никак не мог зрительно его представить. Однажды он вошел во двор какого-то казенного учреждения и увидел в глубине его старый деревянный дом. «Стоит, - рассказывал Константин Сергеевич, - старый-старый, порос мхом, никому не нужный, но крепкий, еще сто лет выдержит». Говоря об этом доме, он без грима и без костюма становился Крутицким» [118] .
Казалось бы, иногда актеру помогает случайность, но случайность эта обычно закономерна, она должна произойти. Обретенная суть характера, «зерно» его, обязательно выразит себя в характерности. Как бы - быстрее или медленнее - ни шел этот процесс, он неизбежен и закономерен. (Конечно, характерность может быть как яркой, острой, смелой, так и весьма тонкой - все зависит и от особенностей драматургии, и от склада творческой индивидуальности артиста.) Главное - овладеть сутью характера, суметь «присвоить» себе его поступки, мысли, чувства, а не остановиться на полпути, как это случилось с молодым актером, репетировавшим роль Треплева.
Когда актер не в состоянии разбередить себя ролью, создать в себе другой «внутренний склад души», когда цели, мысли, поступки роли не стали как бы его собственными, он вынужден скрывать свою несостоятельность за теми или иными приемами внешней характерности.
Нередко он поступает, как те студийцы, участвовавшие в маскараде, о которых рассказано в главе «Характерность» и которые, в отличие от Названова, всего лишь спрятались за костюмами и гримами театральных купцов, военных, аристократов, за «вообще» свойственные им манеры поведения и повадки.
Впрочем, надо сказать, что приемы внешней характерности понемногу меняются, становятся более гибкими и деликатными. Почти исчезли со сцены аляповато-грубые гримы, чудовищно-театральные парики, раздражающий наигрыш. Актер, которому надо спрятать за внешними приемами характерности отсутствие подлинной «жизни человеческого духа», может быть весьма разборчивым в выборе средств и старается, чтобы эти приемы выглядели убедительно-жизненными. Он может и вправду подсмотреть их в действительности. Но суть явления от этого не меняется: характер, личность подменяется характерностью, подлинное существование в образе - представлением. И, как утверждают современные критики, случается это нередко. Именно «в оправе «внешней характерности» - будто визитную карточку предъявляет - чаще всего выходит на подмостки нашего театра так называемый «характер». Его душевные свойства, его человеческое содержание плотно упакованы в стандартную обертку, на которой вместе с национальной и сословной принадлежностью и датой изготовления (век такой-то, страна такая-то) уже заранее предусмотрительно указаны «сопутствующие» эмоции… Человекообразно улыбаясь и старательно имитируя одухотворенность, с театральных конвейеров один за другим сходят манекены. Их главное назначение - полностью оправдать ожидание зрителей. Они запрограммированы согласно вашим ожиданиям, их так называемая «типичность» есть производное от ваших предыдущих впечатлений[S1]» [119] . К сожалению, критики правы.
«Создание внутреннего склада души» роли столь трудно и требует от актера столь полной эмоциональной отдачи, что, не дойдя до цели, можно, иногда даже незаметно для себя самого, скатиться и к «стандартной обертке», и к «имитации одухотворенности», и к обозначению «сопутствующих эмоций», словом, так или иначе, но ограничиться «оправой внешней характерности».
Опасность эта так велика, что актер, который начинает свой путь к образу как бы именно с «оправы», с вопросов «какой?», «какая?», «как?», вызывает естественное беспокойство и настороженность как у партнеров, так и у режиссеров. Между тем актер, начинающий попытки «увидеть» свой будущий образ с поиска его внешности и манеры поведения, вовсе не обязательно занимается формальным трюкачеством, и, возможно, его искания не ограничатся удачно найденной внешней «оправой» или, того хуже, набором заскорузлых штампов. В этом может проявиться особенность его творческой индивидуальности.
Так, есть писатели, для которых портреты их героев, казалось бы, не имеют важного значения, и есть удивительные мастера такого портрета. К первым можно отнести Достоевского, ко вторым - столь разных и ни в чем прочем не сходных Гоголя и Тургенева. Как справедливо отмечается в одной из статей, посвященных изучению творчества Достоевского, у него «внешность многих персонажей вообще не изображается, и речь не о лицах второстепенных или о малых жанрах - есть центральные герои больших романов и, однако, «фигуры не имеющие», по слову Тынянова», а «человек в художественной системе Гоголя предельно внешностно воплощен: даже гоголевские мнимости - это ипостазированные мнимости («Вий», «Нос») [120] .
Интересен вывод, который делает в заключение автор статьи, что существуют как бы типы художников. Один из них можно условно назвать «сущностным». Это «тип литературного мышления, не регистрирующего разветвленные современные бытовые ситуации и формы, разнообразие в его живописной пестроте». Другой тип художников «остро реагирует на сиюминутные формы, постоянно творимые жизнью в сфере природной и социальной, они внимательны к вещи, укладу, этикету, быту. Этот тип формоориентированного мышления (пример такого художника - Тургенев)» [121] .
Несомненно, что существуют и разные типы актеров с теми или иными преобладающими особенностями восприятия, мышления и воображения, и что актеров, как и писателей, можно, хотя и несколько условно, конечно, разделить на представителей «сущностного» и «формоориентированного» склада. (Правда, для одного и того же актера направление творческого поиска зачастую определяется характером драматургии и режиссерским замыслом, но это уже другой вопрос, выходящий за рамки данной статьи).
В записных книжках Л. М. Леонидова есть такая запись: «Нужно идти от внутреннего образа, от внутреннего характера. Когда идешь от внешнего, попадаешь в штамп, наигрыш, представление» [122] . Разве это не пример «сущностного» подхода к работе над образом, свойственного данной актерской индивидуальности? Для Леонидова, актера огромной эмоциональной силы, характерность, даже самая яркая, всегда являлась результатом глубочайшего проникновения в самые затаенные глубины «жизни человеческого духа» роли. (И, вероятно, не случайно одним из его любимых авторов был Достоевский, а одной из его лучших ролей считается роль Дмитрия Карамазова в спектакле «Братья Карамазовы»).
Гораздо противоречивее в этом смысле творческая индивидуальность Станиславского - актера «глубокой характерности», по выражению П. А. Маркова. Для Станиславского путь к подлинному перевоплощению мог начаться как с «создания внутреннего склада души», так и с овладения внешней формой роли. Отсюда и проистекают некоторые сложности в главе «Характерность» - одной из самых интересных, но и самых трудных глав его книги.
Когда, показывая всего лишь одну характерную черту внешности знакомого ему человека, Станиславский - Торцов неожиданно для себя меняется весь настолько, что и «в психологии происходит незаметный сдвиг», - это свидетельствует об определенном своеобразии актерской индивидуальности. То есть в данном случае толчком для интенсивной работы воображения служит элемент формы, и чем она острее, ярче, тем лучше, тем активнее включается в творчество вся эмоциональная сфера актера. Особенностями такого воображения являются непосредственные, подвижные, гибкие связи между физическим существованием человека - внешностью, пластикой, дикцией - и складом его психики.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мастерство режиссера"
Книги похожие на "Мастерство режиссера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Н. Зверева - Мастерство режиссера"
Отзывы читателей о книге "Мастерство режиссера", комментарии и мнения людей о произведении.