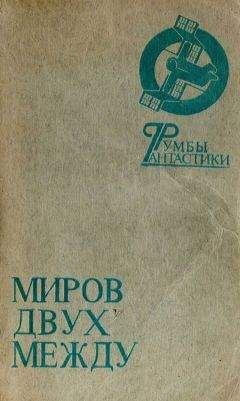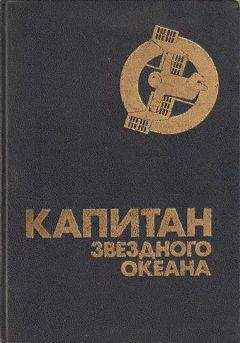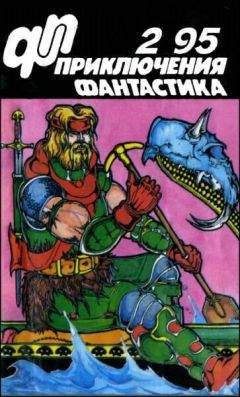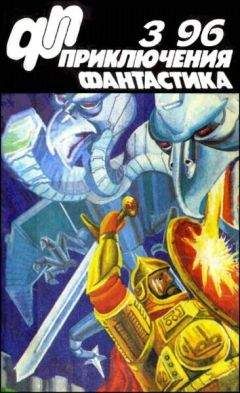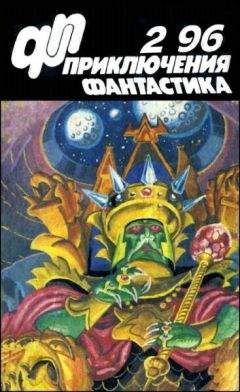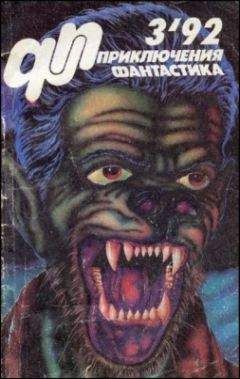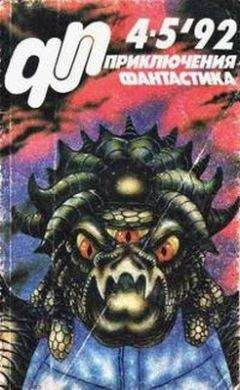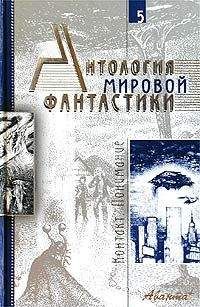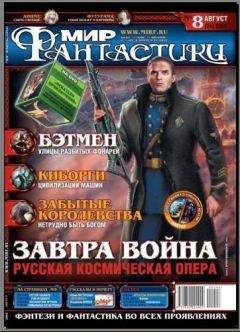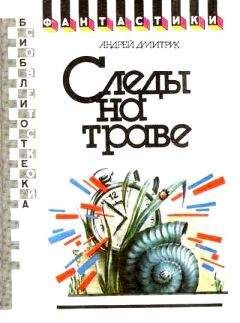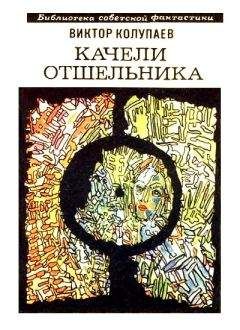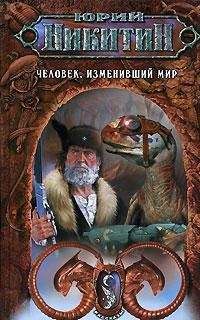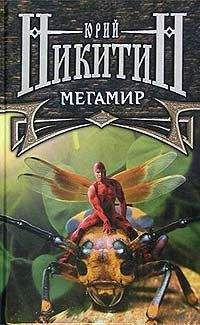Юрий Кудрявцев - Три круга Достоевского
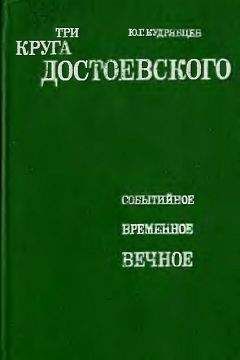
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Три круга Достоевского"
Описание и краткое содержание "Три круга Достоевского" читать бесплатно онлайн.
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета
Монография (1-е изд. — 1979 г.) представляет собой попытку целостного рассмотрения мировоззрения Достоевского, одного из наиболее сложных художников-мыслителей. Автор анализирует проблемы событийного, социального и философского плана, поднятые Достоевским. Оригинальное прочтение произведений Достоевского, новая трактовка наиболее важных художественных образов дают современное понимание многих идей писателя, его философии человека.
Для философов, филологов, всех интересующихся проблемами творчества Достоевского.
Научное издание
КУДРЯВЦЕВ Юрий Григорьевич
ТРИ КРУГА ДОСТОЕВСКОГО
Зав. редакцией Н. А. Гуревич
Редактор Ю. С. Ершова
Оформление художника Е. К. Самойлоза
Художественный редактор Л. В. Мухина
Технические редакторы М. Б. Терентьева, Н. И. Смирнова
Корректоры Е. Б. Витю к, С. Ф. Будаева
Сдано в набор03.08.90. Подписано в печать 17.12.90.
Формат 60X9016. Бумага офсет.
Гарнитура литературная. Высокая печать.
Усл. печ л. 25,0
Тираж 20 000 экз. Зак. 329. Изд. № 1254.
Цена 3 р. 50 к.
Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 57.
Типография ордена «Знак Почета» изд-ва MГУ.
119899, Москва, Ленинские горы
ISBN 5 — 211 — 01121 — X
© Издательство Московского
университета, 1979
© Ю. Г. Кудрявцев, 1991 дополнения
Теперь суть теории. Изложенной серьезно, без иронии, пропитавшей всю остальную часть повести.
В основе теории парадоксалиста — тоска по целостной личности, стремление к тому, чтобы быть самим собою, мыслить самостоятельно. Человек имеет на это право, более того, он просто обязан быть личностью.
Что же мешаеу? Мешают установки, теории. В частности вульгарно-материалистическая теория, хотя сам герой ее так не именует.
Это теория, отказывающая человеку в его относительной автономии в природе. Теория, согласно которой все в человеке от среды. В самой же среде — закономерности, стена закономерностей. Значит, и личность человека полностью зависима от стены закономерностей. Творческое начало в человеке исключается. Человек низводится до винтика. Все сделано до него и за него. Мир на строгом расчете. Разумное общество исключает из себя все, что приносит человеку страдание. «В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться?» [5-, 119]. Человеку обещается жизнь, исключающая всякие раздумия и сомнения. Сам человек из исторического процесса исключается, он не нужен как субъект, нужен лишь в качестве объекта.
Как чувствует себя человек, признающий теорию стены? По-разному. Безличность весьма уютно. Ибо не надо думать — все закономерно, все расписано. Не надо ничего предпринимать, низа что отвечать, я — совокупность закономерностей. Я не обладаю свободой воли, а следовательно, ни за что не несу нравственной ответственности.
Личность в этих условиях, если она уверена, что стена закономерностей действительно существует, начинает деградировать.
Ибо личности и быть-то не должно, коль стена закономерностей.
Герой изображает из себя такую личность, признающую стену и деградирующую. Он теряет в себе все утвердительное и определяет себя через неопределенное. «Я не только злым, но даже « ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым» j[5, 100]. Вот при таких-то условиях человек и обрадуется определению «лентяй».
Здесь не отражена суть героя. Герой притворяется, он играет роль. принимающего теорию среды, теорию стены. Играя, говорит и показывает, к чему ведет теория. Он прикинулся «умным», т. е. теорию понявшим и (что делать?) принявшим. Потому-то он и неопределенен: «...умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель — существом по преимуществу ограниченным» [5, 100].
Упоминание о веке не есть сведение проблемы к социальности девятнадцатого века. Этим указано лишь время появления и распространения теории стены.
Перед стеной человек может пасовать. С разной целью. Одни искренне убеждены, что стену не превзойдешь и не обойдешь. У этих и не возникает мысли, что можно попытаться противопоставить себя стене. Это же неразумно.
Для других стена — просто предлог, защищающий и предохраняющий их от действий, совершать которые им в силу каких-то причин не хочется, но еще меньше хочется признаться, что совершать их не хочется. И тут стена! Вот благо-то! Рад бы, да не могу — закономерность!
Одни из воспринимающих стену — это делающие, но не думающие, другие — думающие, а потому не делающие. Вот размышления героя о тех и других: «Для них стена — не отвод, как, например, для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое» ,[5, 103 — 104].
Удел всякого думающего — безделие. Что же делать, если все предопределено без нас? Думающие потому пассивны. Активность в этих условиях — удел дураков. Об этом герой говорит с полной определенностью. «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены» [5, 108]. -
Желающий проявить себя в условиях стены не может этого сделать. Ибо нет его воли. Она отнята. Нечего проявлять. И человеку, сведя его к совокупности чего-то внешнего, дают чужую волю и диктуют: выдавай ее за свою. Личность — не захочет выдавать. И скажет: «Эх, господа, какая уж тут своя воля будет», когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!» [5, 117].
В этих условиях человек уходит от деятельности, становится пассивным. «Конец концов, господа: лучше ничего не делатьЕ Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!). Там по крайней мере можно... Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!» [5, 121].
Предпочел бы иное, вне стены лежащее. Но если я таков, убежден в господстве закономерностей, то иного для меня нет. Останутся лишь вопросы для себя. Но и их не будет. Наука все вычислит за человека и тем самым искоренит вопросы. И будет в обществу спокойствие. Одни будут сидеть в «подполье» и терять свою личность. Другие, личности никогда не имевшие, будут усердно трудиться, то ли по-глупому бескорыстно, то ли по-хитрому корыстно.
Герой показался таким, как тот, что ушел в подполье. Но он лишь показался таким. Но не был. Он, повторяю, сыграл роль живущего по теории стены.
Подпольщик как-то сказал: «Господа, меня мучат вопросы» разрешите их мне» [5, 117]. Его личность не уничтожена. У него есть вопросы. Он их ставит. Сторонники стены до ответа не снизошли, ибо не привыкли к строптивости придерживающихся теории. Но он пристает: «Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье» [5, 120]. Ваш идеал меня не устраивает. Не хотите показать лучшее (видимо, потому, что показано уже все), не хотите обращать на меня внимание — не надо.Но пока вы господствуете, с вашей философией, я — лучше в подполье, чем с вами. И герой отказывается носить кирпичи на строительство «хрустального дворца». Да еще и иронизирует над сторонниками стены, неспособными ответить на его вопросы: «А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит...» [5, 121].
А говорит-то все о том, что не смирился он, что он остался собою. И уже тем опровергает мысль о зависимости человека от стены и об истинности теории стены вообще. Опровергает теорию, зовущую к «хрустальному дворцу», а попутно упрощающую действительность, жизнь. Теория строится на чистой логистике и она не верна.
Но сами теоретики этого не видят. Пристрастие к своей теории мешает объективно взглянуть на нее и на окружающую жизнь. Сравнение не делается. И парадоксалист говорит: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие...» [5, 112].
Туда ли идет мир, к хрусталю ли, о котором вы постоянно говорите? Оглянитесь на свою теорию, снимите с глаз шоры. Все это говорит парадоксалист теоретикам стены.
И тут вспоминаются его слова: «...я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь» [5, 102]. Болезнью называется сознание, не учитывающее всей сложности человека и создающее поэтому теорию среды.
Сам парадоксалист, еще раз повторяю, не придерживается теории стены. Он лишь играет роль личности, стремящейся к потере себя. На деле он личность, целостная личность. И никогда не согласится с теорией, так низко ставящей человека. Он противопоставляет теории среды свою теорию личности.
Есть ли у вас закономерности, сводящие мою волю на нет, или их нет, меня это не касается. Я поступлю вопреки стене, вопреки закономерностям. И тем самым докажу неверность вашей теории. Мой факт вне вашей теории. А если хоть один факт теории противоречит, то это уже не теория, а всего лишь гипотеза. И парадоксалист показывает, что это и есть гипотеза. Он показывает, что человек будет активен, но не по законам стены, не в пользу ее укрепления, а во имя ее разрушения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Три круга Достоевского"
Книги похожие на "Три круга Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Кудрявцев - Три круга Достоевского"
Отзывы читателей о книге "Три круга Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.