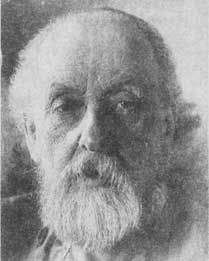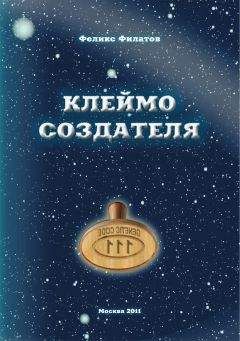Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пираты Эгейского моря и личность."
Описание и краткое содержание "Пираты Эгейского моря и личность." читать бесплатно онлайн.
Рукописи, как и книга «Язык, знак, культура», печатаются без сокращений и без изменений. Редакторские примечания, относящиеся главным образом к истории наследия или раскрывающие имена, которые не всегда можно обнаружить в справочниках, вынесены в подстрочник.
М., 1995. 140 с.
Ничего особенно таинственного здесь нет. Наше мышление постоянно работает в режиме навыкообразующего механизма, и поскольку все мы заинтересованы в продукте, а не в процессе его изготовления, то в любой неупорядоченности мышление привыкло видеть «задачу», привыкло тут же пытаться найти ее «решение» - связать неупорядоченное в порядок. И пока этот процесс на полном ходу, мы просто не в состоянии заметить, как он происходит, как никто, например, не был бы в состоянии сказать, каким словом началось данное предложение или закончилось предыдущее.
Философы уже в основном перешли в состояние «осведомленности», но это не очень помогает. Ситуация примерно та же, что и у лингвистов. Лингвист знает, что существует грамматика, знает, что ее можно исследовать. Но он знает и другое: нельзя одновременно говорить и исследовать, это несовместимо. Назвать ли это явление «эффектом сороконожки» или «принципом дополнительности» или «сбоем», разница не так уж велика: исследовать можно лишь опредмеченное, остановленное. В вопросе о репродукции и творчестве различие между философом и не-философом того же примерно порядка, что и различие между лингвистом и не-лингвистом: оба одинаково хорошо пользуются речью, но лингвист может остановиться, пойти вспять, проанализировать этот процесс, если он зафиксирован в письме или записи, а не-лингвисту не дано, и он может пребывать в спокойной уверенности, что язык - это «словарь и грамматика», не слишком задаваясь вопросом о том, откуда они берутся: никто ведь вроде бы не учил его родному языку по словарям и грамматикам.
He-лингвист охотно и с азартом берется рассуждать о лингвистических явлениях, которые кажутся ему предельно ясными: как надо «правильно» произносить те или иные слова, говорить ли «звонишь» или «звонишь», «довлеть» ли просто самому себе или «довлеть» над кем-то и т.п. Лингвисты не любят ввязываться в эти споры, поскольку сама идея унификации, правильности, полного и строгого порядка, которая невысказанно прячется за азартом спорщиков, представляется им в применении к языку идеей унылой, требующей доказательств; она к тому же ведет себя настолько непозволительным образом, что ни один лингвист не взялся бы за ее обоснование. Точно так же складываются отношения между не-философами и философами: слишком уж часто не-философы затевают на полном серьезе и со страстной убежденностью споры, которые с точки зрения философа имели бы какой-то смысл только в том случае, если бы удалось доказать право на эту страстную убежденность. Всматриваясь в ту почву, на которой произрастают эти убеждения, философ чаще всего обнаруживает, что речь идет все о том же антично-христианском тождестве наилучшего и упорядоченного, о наделении самого порядка, самой целостности «врожденными» ценностными характеристиками.
Недавний, но достаточно типичный пример в этом отношении - статья Н.Г. Джусойты «Воспитание чувств и обычаев» («Дружба народов», 1968, № 7). Отсутствие осведомленности о взрывных свойствах почвы, по которой он ходит, делает работу наглядной демонстрацией того, куда указывает компасная стрелка «среднеевропейского» духовного стереотипа и куда может завести свободное движение по этому указателю. Здесь дело идет уже не о Плантагенетах анжуйских, которые жили все-таки в XIIXIV вв., а о чем-то гораздо более древнем, о самих кущах Эдема, обнаруженных на этот раз на склонах Кавказа. Любовь к «гармонии прав и обязанностей личности и общества», то есть к принципу совпадения личного и должностного, к растворению личного в общественном, уносит Джусойты в райские древние времена, когда такое совпадение было реальностью. Осведомленность в исторической географии помогает ему ориентироваться, заметить, куда именно его несет, но это нисколько автора не смущает, потому что та страна обетованная - общинно-родовой строй, куда ведет его компас, называется еще и по-другому: первобытный коммунизм. По-видимому это эпонимическое обстоятельство вкупе с познавательным аффектом и предрасполагает Джусойты к откровенному открытию или явному откровению: «Для многих пропагандистов прошлое, традиционное, давнее стало синонимом плохого, отрицательного, вредного. А между тем при близком знакомстве с нравственным наследием прошлого оказывается, что подлинно народные традиции поразительно совпадают с принципом морального кодекса строителя коммунизма, выдвинутого нами как идеал» (с. 249).
Мы бы не удивились, если бы такое поразительное тождество оказалось справедливым. Те философы, которые лет 10-11 тому назад принимали участие в разработке кодекса, да и те, кто подобно нам, при сем присутствовали, помнят еще наверно, как все это происходило, как долго и нудно обсуждались евангельские заповеди, отношение будущего кодекса к библейской мудрости: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф., 7, 12) и к категорическому императиву Канта: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (32, т. 4, ч. 1, с. 260). Если такое тождество «нравственного наследия прошлого» и морального кодекса строителя коммунизма действительно имеет место, то это, на наш взгляд, может сказать нечто определенное только об умонастроениях составителей кодекса, а не о самой нравственности будущего.
Но для Джусойты здесь нет проблемы, тем более, что вот и сам Энгельс писал в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» об этой эпохе почти с восторгом: «И какая чудесная организация этот родовой строй при всей ее наивной простоте! Без солдат, жандармов и полицейских, без дворянства, королей, наместников, префектов или судей, без тюрем, без процессов - все идет своим установленным порядком» (с. 243). В упомянутом «установленном порядке», который чуть ниже Энгельс назовет еще и «вековым», автор не видит знака, предупреждающего об опасности и пустоте мечты о вековой установившейся стабильности в нашем обществе, в самой основе которого лежит нестабильность. Эта детская доверчивость к классическим восторгам заставляет Джусойты даже усилить и позитивно осмыслить стабильную суть древней социальности: «Демократизм этого общества заключался и в том, что еще не было антагонизма между правами и обязанностями человека (то есть не было избытка человеческого над должностным. - М. П.). Гармония между правами и обязанностями создавала ту идеальную нравственную и психологическую атмосферу, в которой и горе и радость, и праздничный день и поминальный становятся всеобщими, всенародными (с. 244). Благами такой гармонии пользуются две трети мира, но им она почему-то не нравится.
Ясно, что если человек принял стабильность, вековой обычай в качестве верховной ценности, то освещенной тем самым оказалась и репродукция как в форме личного установившегося навыка, так и в форме навыка социального. Отсюда требование слияния нравственности, морали и права в обычай: «Не ясно ли, что для создания новых, подлинно народных обычаев и праздников необходима нравственная и психологическая атмосфера, которая невозможна без идеальной гармонии прав и обязанностей личности и общества, не знающего классовых противоречий. Такую атмосферу искусственно организовать нельзя. Она возникает там, где право в то же время есть обязанность, а обязанность - право, там, где закон и обычай идентичны или закон стал обычаем, обычай единственным законом, регламентирующим отношения людей, будучи разумным обобщением этих отношений в реальной жизни» (с. 244). Некоторые наши теоретики морали и права советуют уже сейчас заняться этим делом - поисками и законодательным закреплением стихийно сложившихся «коммунистических» обычаев, то есть советуют действовать в духе «средних законов» Беневоленского: «Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: «всякий да яст», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие для того, чтобы законодатели не коснели в праздности» (6, с. 56).
Не чужд этой концепции законодательной деятельности и Джусойты, поскольку его «максимальный демократизм» и есть область действия средних законов, «к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения», и поскольку на этот раз идея среднего закона используется активно и «лишенный зависти» демиург Джусойты, паря над райскими кущами древнего Эдема, «возжелал», чтобы все там были, он через Джусойтыфилософа открывает его современникам путь в землю обетованную: «Если мы желаем, чтобы наш современный идеал нравственного величия человеческой личности стал у потомков обычаем, естественным проявлением человеческого «я» в повседневном быту, мы должны сегодня создавать необходимую для обычая нравственную атмосферу всеобщего братства, гармонию прав и обязанностей личности и общества» (с. 252). Предки всегда желали такого потомкам, и мы в этом смысле не исключение, но вот както не встречались еще такие потомки, которые беспрекословно следовали бы предначертаниям предков. Да и как в нее попасть, в эту землю обетованную?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пираты Эгейского моря и личность."
Книги похожие на "Пираты Эгейского моря и личность." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Пираты Эгейского моря и личность."
Отзывы читателей о книге "Пираты Эгейского моря и личность.", комментарии и мнения людей о произведении.